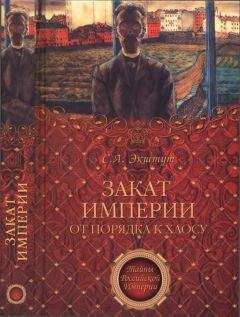Вениамин Каверин - Эпилог
Мы переночевали в моей квартире на канале Грибоедова, чтобы утром поехать в Лугу, где мы с Юрием жили на соседних дачах. Я не расспрашивал его, я знал, что он был не из тех, кто жалуется, рассказывая о неотомщенном унижении. Прошло немало лет, прежде чем я узнал, что ему отбили почки, сломали ребра, что он дважды — за отказ написать ложные показания — находился в Сухановской тюрьме, где применялись самые изощренные пытки. Да и узнал-то я как-то мельком, между прочим, полуслучайно. Так, однажды он рассказал, что следователь пожалел его — невероятный случай! — и, заметив, что он путается в словах, теряет сознание, — предложил ему десять минут полежать на диване. «Заснул мгновенно, — сказал Лев и прибавил задумчиво: — Кто знает, может быть, меня спасли эти десять минут». Однажды, через много лет, когда врач, смотревший его под рентгеном, ахнул, увидев криво сросшиеся ребра, Лев сказал улыбаясь: «Не обращайте внимания, доктор, это у меня — врожденное».
О том, что он перенес и как держался на допросах, можно судить и по другой, случайно вырвавшейся фразе: «Когда я чувствовал, что следователь мною доволен, я, вернувшись в камеру, не мог уснуть от волнения».
Следователя надо было оставлять раздраженным, недовольным, доведенным до бешенства, проигравшим в дуэли между безоружным человеком и махиной палачества, подлости и садизма.
Лев был молчалив, когда мы остались одни в пустой, прибранной на лето квартире. Поужинали, я предложил выпить, он отказался. Потом стали устраиваться на ночь, и вдруг, ласково положив мне руки на плечи, он сказал: «Не суетись». И в этих словах, в серьезности, установившейся на усталом лице, мелькнуло выражение, заставившее меня болезненно вздрогнуть. Он хотел сказать: «Не суетись, это может повториться».
Потом мы собрались ложиться, и он вдруг попросил у меня том энциклопедии Брокгауза и Ефрона на «И». Я достал, принес ему, мы разделись. В открытое окно тянуло свежестью, я спросил, не холодно ли ему. «Ну что ты!»
Лежа, я искоса поглядывал на него — как-то не верилось, что мы рядом. Он спросил, не мешает ли мне свет, и хотя я и ответил, что нет, он заслонил настольную лампу сложенной пополам газетой. Долго читал он, бесшумно перелистывая страницы, потом положил книгу не закрывая на пол, и через несколько минут послышалось его ровное сонное дыхание. Уснул, а мне не спалось до утра. Бессонница, не та, к которой я уже тогда начинал привыкать, не страх перед завтрашним днем, в котором неотвратимо окажутся эти часы, бесшумно, неуклонно скользящие один за другим, вплоть до рассвета, а совсем другая, железная, та, которая томила и угнетала невозможностью изменить опасно-бес-смысленный порядок вещей. «Не суетись… Это может повториться».
Когда рассвело, я слез с кровати — мне хотелось узнать, какая же статья из Брокгауза могла заинтересовать Льва после всего, что он пережил, — догадка не обманула. Том был раскрыт на статье «Инквизиция». Сравнивал?
Прочел вслед за ним и я эту статью, убедившись в том, что за триста лет по приговорам испанской инквизиции с 1481 по 1809 год были сожжены немногим более тридцати тысяч людей да еще около трехсот тысяч были посажены в тюрьмы и подвергались другим наказаниям. Получалось, что примерно тысяча подлинных и мнимых еретиков в год страдали от «гнусного и неслыханного суда», как указывалось в Вормской летописи. В ту пору и в голову не приходило, что в тюрьмах, в лагерях, на этапе, на лесоповалах нашей страны погибли не тысячи, а миллионы ни в чем не повинных людей, как это неопровержимо доказал Джон Конквест в своей книге «Большой террор». И это произошло не за триста, а за тридцать лет.
Сходства не было. Действия инквизиции не проходили в немоте, в тайне, самое нарушение которой считалось тяжелым преступлением у нас. Против инквизиции сражались не голыми руками. В Германии первый инквизитор Конрад Марбургский был убит во время народного восстания, а через год-два его помощники «подверглись той же участи», как вежливо сообщала энциклопедия. Во Франции борьба против инквизиции вызвала кровавые, опустошительные войны.
Да, сходства не было. То, чем уже в конце тридцатых годов мог поразить человечество русский «век-волкодав», не поддавалось сравнению.
10Разбирая на днях свой архив, я наткнулся на папку, содержание которой с математической точностью показало всю приблизительность моих воспоминаний. Очевидно, память цепко ухватывала и надолго сохраняла все, что касалось сердца, — атмосферу событий, степень душевного напряжения. А разум… Участвуя в этой работе, запоминая почти бессознательно, он не делал зарубки на дереве, подобно Робинзону Крузо.
Когда моя трилогия «Открытая книга» подходила к концу — в 1957 году — эту-то дату я запомнил навсегда, по причинам, о которых еще узнает читатель, — я спросил З.В., не сохранились ли у нее бумаги, связанные с Алексеем Александровичем: именно его я пытался изобразить в лице Андрея Львова, одного из моих главных героев.
— Сохранились, — ответила она и вручила мне папку, которая лежит сейчас перед моими глазами.
В ней тридцать семь пожелтевших, оборванных по краям страниц — протоколы, свидетельские показания, письма к Берии, Вышинскому, Ульриху, председателю Военной коллегии Верховного суда и снова свидетельства, протоколы.
Грандиозность задачи не позволила ни Конквесту, ни Солженицыну разобраться хотя бы в одном деле во всех подробностях, с той объемной реальностью и рельефностью, которые возможны, пожалуй, лишь на сцене.
В «захаровской» папке как раз был именно такой, обозримый со всех сторон, конкретный материал. Но я воспользуюсь им только как «подобием». Брат почти ничего не рассказывал мне о том, что с ним случилось, когда он был арестован второй раз. «Подобие» может заменить этот отсутствующий период.
Алексей Александрович был арестован в феврале 1938 года. Папка относится к осени 1939-го, когда друзья его — и в том числе, разумеется, Лев — попытались убедить Военную коллегию в необходимости пересмотра дела. Возможно, что надежда была основана на одной случайности, настолько поразительной, что о ней необходимо рассказать; она озаряет сцену действия все-объясняющим светом.
Эта случайность связана с мужественным поступком одного из сотрудников Мечниковского института, В.И.Воловича. Летом 1938 года он дежурил ночью в кабинете директора института А.П.Музыченко. Скучая, он занялся рассмотрением бумаг, оставленных кем-то на письменном столе, и вдруг обнаружил…
Но здесь необходимо остановиться на личности и деятельности этого Музыченко.
Широко известно, что уже лет пятнадцать тому назад был составлен и опубликован во всех европейских странах список «литературных преступников» — то есть тех, кто десятилетиями топтал и уничтожал нашу поэзию и прозу, тех, на чьей совести смерть Бабеля, Табидзе и других первоклассных писателей, — список тех, кто по горло в крови и доныне занимает видное положение в издательствах и институтах.