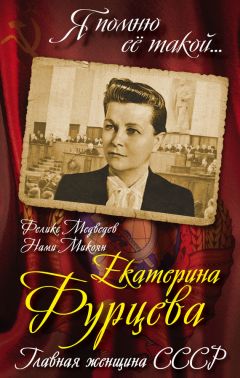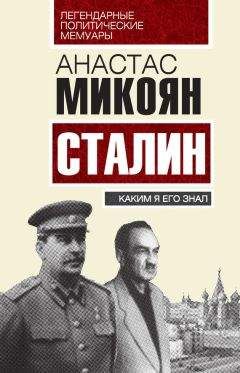Герман Гессе - Письма
У нас в то время были другие заботы, чем теперь, заботы, которыми, несмотря на их относительную незначительность, даже смехотворность, нельзя было делиться письменно из-за бдительных глаз германской цензуры. Формально запретить мои книги и лишить меня гражданства нацисты никак не могли, хотя и мои писания, и сам я были им очень противны. Я давно уже не был германским подданным, а мои книги, правда, значились в списке нежелательной литературы, но пользовались в Германии симпатией определенных кругов, которые предпочтительней было не раздражать; кроме того, они продавались и за границей, принося властителям валюту на мелкие расходы. Поэтому довольствовались тем, что не переставали твердить книготорговле и прессе, как я малоприятен, и в общем-то закрывали глаза, если мои книги не красовались в витринах или на прилавках, а продавались со стыдливой усмешкой. Зато вместо запрета придумали другое средство давления: не давали лицензии на бумагу для переиздания нежелательных книг. Так, много лет не было на рынке книги «Размышления», содержавшей мои статьи времен прежней войны, а когда наступал срок переиздания книг, возникали странные вопросы и опасения. Большинство этих вопросов я забыл, но два еще помню. В моем сборнике стихов «Утешение ночи» было много стихотворений с посвящениями друзьям, а среди таковых были и евреи, и эмигранты. Меня спросили, готов ли я устранить это неблагообразие. Книга была мне дорога, я хотел спасти ее и потому снял посвящения, разумеется, не только нежелательные, а все вообще. Иначе обстояло дело со «Златоустом». Там есть несколько строк об антисемитизме и погромах в средневековой Германии, и вычеркнуть эти строки значило бы сделать непозволительную уступку нацистам. И эта книга, так же как «Размышления», исчезла и вышла снова только после проигранной второй войны.
Если в моем отношении к тебе сочувствие и озабоченность всегда играли и играют какую-то роль, то это никогда не было сочувствие второстатейное, какое порой способен испытывать сильный – к слабому, благополучный – к бедняге. Нет, всегда именно в тех случаях, когда казалось, что ты в опасности, измучен, нуждаешься в защите, я чувствовал в твоей натуре и в твоем страдании родственную моей собственной натуре разновидность незащищенности и ранимости. Я часто почти со злостью желал тебе больше твердости, больше сопротивляемости и агрессивности и меньше терпимости, меньше покорности, и все же именно этот недостаток твердости, эту терпимость и готовность страдать я в душе понимал, именно им я сочувствовал, именно они открывали мое сердце тебе. «Петер, стань тверже!» – не раз восклицал я, за то и любя тебя, что тверже ты не был.
Но не хочу заниматься психологией и подробнее разбирать, в какой мере основывалась наша дружба на противоположности, в какой – на сходстве наших натур.
Не будем больше касаться этого. Я из чистого эгоизма желаю тебе сегодня, чтобы силы твои еще долго не иссякали. Издателей, которые могут жить и без авторов, предостаточно, а наоборот не бывает.
Ты живешь жизнью, которая как нельзя более чужда моей и на нее непохожа, жизнью непоседливой, хлопотливой, переполненной людьми, поездками, посетителями, телефонными разговорами, вихрящейся, как в центрифуге. Так живут многие, так живет большинство. И все-таки от тебя исходит спокойствие, ты никогда не действуешь на меня взбудораживающе, я редко видел тебя не замотанным, не перегруженным, но никогда – нетерпеливым. В тебе есть что-то глубоко христианское и одновременно что-то восточно-тихое, налет дао, скрытая связь с естеством, с сердцем мира. Об этой тайне я буду еще часто размышлять.
Томасу Манну
[конец октября 1951]
Дорогой господин Томас Манн!
Ваше письмо принесло радость в нашу хижину. Что Ваша поездка прошла хорошо и Ваша дочь добралась до Вас, обойдясь без заезда в Мексику, и что моей книге писем Вы уделили столько участия и времени, это мы прочли с удовольствием и умилением. Книге писем недостает короткой объяснительной заметки, рассказывающей об обстоятельствах, которым сборник обязан своим возникновением, но у меня теперь очень редко хватает храбрости или юмора что-то написать, а тут я был просто не в состоянии это сделать.
Да, чего только не приносят в дом письма! Один бернский книготорговец однажды написал мне: какой-то его покупатель, рабочий из Эмменталя, заказал мою книгу «По следам сновидений», а через несколько дней прислал назад на том основании, что «такая чепуха еще никогда не бывала у него перед очками».
На днях тоже одно письмо, среди множества серьезных и отчасти пугающих, доставило мне удовольствие. Дирекция некоей школы, находящейся неподалеку от Вашей родины, сообщила мне следующее: в последнее время их занимала проблема убранства актового зала одной средней школы. Но наконец они нашли решение: они склонили скульптора, профессора В., представить в пяти горельефах ступени человеческой жизни, «которая выводит каждого из-под материнской опеки к профессиональной подготовке, к прорыву индивидуальности в плоскости профессии, обращению к «ты» в области общественной и благотворительной деятельности и, наконец, к метафизике и синтезу веры и знания». Эти рельефы соединит широкая лента, на которой будут начертаны, если я ничего не имею против, последние строки моего стихотворения «Ступени».
Мне, таким образом, пришлось задуматься, имею ли я что-либо против. В сущности, мне было безразлично, что напишут на этой ленте, но потом у меня все-таки возникли кое-какие соображения, и в конце концов я придумал примерно такой ответ:
«Вспоминая школьные помещения, где я учился, я хоть и не припоминаю никаких рельефов с лентами – в те сказочные довоенные времена никто не был еще достаточно богат для таких благотворительных и роскошных творений, – но все-таки там и сям попадалось, на более скромной ступени, что-нибудь вроде картины и изречения, гипсовая голова Софокла над дверью, портрет всемирно известного немецкого драматурга, да и изречения неоспоримо глубокого содержания тоже кое-где можно было увидеть. Если бы меня, четырнадцатилетнего, спросили тогда, хотел бы я быть одним из изображенных писателей или автором этих изречений, я ответил бы возмущенным отказом, ибо, надо к стыду нашему признать, мы, мальчики, ни во что не ставили эти благородные украшения, мы находили их скучными и пользовались золотыми словами разве что для смешных переиначиваний и каламбуров. Таким образом, как Вы видите, с той школьной поры, со времен тех наказаний, во мне осталось какое-то сопротивление этим вещам, чтобы не сказать – отвращение, отчего мне вовсе не хочется, чтобы мои слова красовались в таких торжественных местах, а меня присоединили к плеяде классических авторов золотых слов от Марка Аврелия до Шиллера.