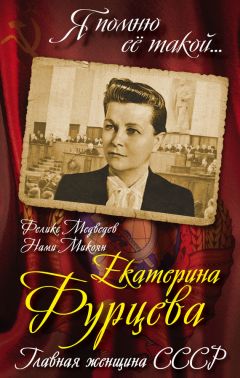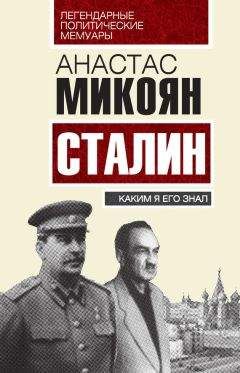Герман Гессе - Письма
Забавное наблюдение: человек чисто умственный, каких бы золотых слов и тонких суждений мы от него ни слышали, нам очень скоро надоедает. И благородные энтузиасты души, поэтические и восторженные специалисты по части сердца нам точно так же вскоре надоедают. И у самодовлеющего благородного ума, и у полагающейся только на себя благородной души одинаково не хватает одного измерения. Это дает себя знать в быту и в политической жизни; еще отчетливее это дает себя знать в искусстве. Ум и задушевность, дерзость и благородство – без своей кровной противоположности они неполны, неубедительны, необаятельны. Человек становится нам скучен, когда у него только два измерения.
Мы были свидетелями того, как специализированный и покорный власти ум Геббельсов старался культивировать в народе, натравливая ее на разум, именно душу. Поскольку критиковать власть уже не разрешалось, поскольку легче всего было управиться с инфантильно некритичным народом, то этим извергам требовалось как можно больше голубоглазой, мечтательной инфантильности.
По моим впечатлениям, в Германии это все-таки не вполне уяснили себе. Мы знаем: величие народа в способности терпеть, а не учиться. И все-таки очень хочется, чтобы при всех бесконечных страданиях он и что-то узнавал, чему-то учился. Но где там!
Специализированная, отборная интеллигенция противостоит народу, который не может ничему у нее научиться, потому что он не в силах ее полюбить. Видеть это, страдать от этого, бороться с этим – вот задача не специализированных, не ставших противниками души людей духа, а значит, и Ваша.
Довольно, ужасно длинное получилось письмо! И ничего в нем нет, кроме само собой разумеющегося!
Поздравление Петеру Зуркампу (к 28 марта 1951 года)
Дорогой друг!
Когда ты недавно был в Бадене и Цюрихе и нам снова довелось поговорить, общие друзья уже поручили мне сопроводить наш подарок на твой день рождения поздравительным посланием, и я воспринял это поручение как любое подобное – то есть как тяжкое бремя. Ведь насколько мне приятно пожелать друзьям добра, пожать им руку или выпить с ними вина, когда на то есть повод, настолько мне неприятно делать это публично и официально; я кажусь себе тогда каждый раз каким-то напыщенно-неестественным и готов послать к черту весь этот празднично-поздравительный балаган. К тому же писать мне становится все трудней и трудней, отчасти из-за старческой немощи, но отчасти и из-за остатков авторского тщеславия; кто некогда со смаком, с артистическим удовольствием пользовался языком и пером, но потерял радость от этого занятия и все огорчительнее чувствовал его сомнительность, тот уже без одышки и головокружения на высокий канат взобраться не сможет. И вот я в растерянности, удрученный своим поручением, с которым ношусь уже несколько недель, как с воспалением горла, сижу за письменным столом и пытаюсь установить, что я, собственно, должен тебе сказать.
Человеческая и частная наша близость, тот факт, что мы друзья, что любим друг друга и желаем друг другу добра, разумеется ведь сама собой. Это, как говорят на своем ужасном языке философы, данность, и надо быть моложе, одаренней и беззаботней, чем я, чтобы выразить это обстоятельнее и декоративнее, чем рукопожатием. Ведь дружба между мужчинами, особенно если она возникла уже в пожилом возрасте, тем чопорнее и тем скупее на слова, чем она сердечнее, и есть немало шестидесяти – семидесятилетних и старше дружеских пар, чьи чувства не нуждаются ни в каком ином выражении, чем, к примеру: «Ну, да…» или «Так выпьем…». Мы тоже обошлись бы этим, и уж подавно при торжественном поводе, юбилее, примерке лаврового венка и некролога. И даже позволь мы друг другу когда-нибудь выразить свою симпатию и дружбу, мы не позволили бы присутствовать при этом другим, свидетелям, слушателям и зрителям, которые весело, растроганно, а то и с отвращением наблюдали бы за тем, как два старичка обмениваются прекрасными чувствами и словами. Нет, amice, от этого мы воздержимся, и отнюдь не только из благоразумия.
Другая, уже более заманчивая возможность приветствия и объяснения по такому юбилейному случаю – это отбросить стеснение и сказать друг другу все, что друг против друга имеешь, дать полную волю критике и всякому накипевшему недовольству. На это еще можно согласиться, и от такого объяснения было бы больше толку, оно было бы интереснее растроганных объятий с музыкальным обрамлением. Но и на это нет у меня охоты, да и основу для такой критики, для такого полемического объяснения у меня, к сожалению, давно перехватило гитлеровское гестапо, которое после вторжения в Голландию, среди войны и побед, в своей дотошной добросовестности не поленилось тщательно сфотографировать и предъявить тебе несколько критических замечаний, посланных мной в дурном настроении в одно голландское издательство, ибо гестапо было тогда как раз на руку нас рассорить. Я, слава Богу, уже не помню точного текста тогдашнего моего критического высказывания о тебе, но, конечно, не сомневаюсь, что они были обоснованны. Эту шутку, стало быть, как многие другие шутки, испортили нам повара мировой истории. И вздумай мы с тобой, дорогой Петер, обменяться мнениями о них, поварах мировой истории, дуэт хотя и получился бы прекрасный и дружный, но вряд ли это была бы та торжественная музыка, которая подошла бы к твоему шестидесятилетию.
Грызть ручку, что в прежние времена давало хорошие результаты, теперь, к сожалению, из-за невкусных и дорогих вечных перьев не принято, а то бы сейчас как раз впору было прибегнуть к этому стилистическому приему. Поэтому надо продолжать, и я продолжаю, приступая к тому вопросу, который занимает меня с тех самых пор, как я опрометчиво пообещал сочинить это поздравление, к вопросу – на чем, собственно, основана моя к тебе приязнь, что придает ей этот особый оттенок, который решительно отличает ее от прочих моих привязанностей. Двадцать и тридцать лет назад, когда я еще был психологом или таковым слыл, я не мог поставить и этот вопрос, ибо тогда мы друг друга еще не знали. Лично познакомились и подружились мы же только за два или за три года до начала Второй мировой войны во время моего последнего короткого пребывания в Германии. Я застал тебя тогда хоть и в угрожаемом, но еще относительно блестящем положении, в роли по-рыцарски готового к жертвам и битвам преемника и наместника дорогого старика С. Фишера, и, хотя о грядущем мы думали одинаково, у нас еще не было речи о жестоких битвах и жертвах, к которым приведет твоя, может быть, слишком рыцарственная верность. Однако ты и тогда уже был сторонником сопротивления господствовавшим тогда методам и идеологии террора, и, наверно, чувствовалось какое-то предвестье, какое-то предвосхищение ожидавших тебя испытаний и бед, ибо в моем восприятии тебя уже в ту первую, прекрасную встречу в Бад-Эйльзене было что-то вроде опасения и сочувствия. Сколь оправданны были это сочувствие и эта тревога, доказали через несколько лет твои испытания в аду гитлеровских тюрем и концентрационных лагерей – а когда ты, надломленный и истерзанный, но живой, вырвался из этого ада, вскоре начались новые испытания и беды, которые не преодолены и поныне и, может быть, горше, чем те первые, ибо теперь тебе противостояли уже не враги и дьяволы, а бывшие друзья, которые, за немногими исключениями, отвернулись от тебя и отплатили за твою верность неблагодарностью. На сей раз у меня была по крайней мере возможность поддержать тебя и показать тебе свою верность.