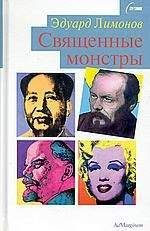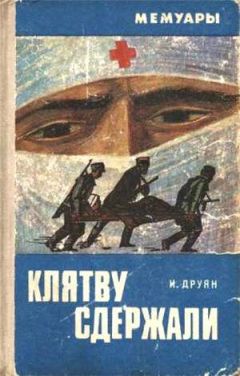Микола Садкович - Мадам Любовь
Алексей Григорьевич кивнул головой, а Василий Иванович спросил:
- Где? У какого лесника?
- Ну, у брата Катерины Борисовны Цыркун. Она работала в райисполкоме. Мальчика она без меня отвела...
Василий Иванович молча повернулся к Алексею Григорьевичу, тот тихо ответил:
- Она здесь была... о брате справлялась.
- Кто? Катерина Борисовна? - Я вскочила, чуть не опрокинув табуретку. Одна или?..
- Одна, - ко мне подошел тот, кого звали Наумычем, - одна... Вчера с отрядом ушла. Брат ее погиб, ну вот и решила...
- Боже мой! Что же с Аликом?
- Все в порядке, не беспокойтесь...
Я почти не слышала его. Как же так? Тетя Катя была здесь, в этой самой деревне, и мы не встретились...
- Почему она не подождала меня?
- А почему она должна была ждать вас? - все так же тихо спросил начальник разведки.
- Мой сын у нее...
- Сын ваш на хуторе, у хороших людей, а о том, что вы придете, она знать не могла. Да и вас она не знает.
- Ну что вы говорите, как это так не знает?
- А так. - Алексей Григорьевич улыбнулся. - Не знает она, кто такая Семенова Любовь Николаевна, товарищ Люба, и знать ей это пока не надо.
Если бы Наумыч не поддержал меня, я, наверное, упала бы. Что-то говорил Василий Иванович, кто-то гладил меня по голове, как девочку, предлагал воды, а я цеплялась за один вопрос: почему она не подождала меня?
- Я догоню ее, помогите мне... Я только спрошу о сыне, и все...
- Не надо, - успокаивал Василий Иванович, - нельзя, дорогая.
Ну да. Нельзя даже спросить о сыне, потому что нет сына у Любы Семеновой, а Варвара Каган умерла. Сын мой при живой матери сирота... Я отдала все: сына, мужа, имя свое... Ничего нет. Есть товарищ Люба, которой нельзя волноваться, и есть командиры, члены обкома. Есть чьи-то больные дети, им нужен аспирин, йод, примочки... Есть раненые бойцы, для которых старухи по ночам щиплют корпию и режут полотенца, и есть до удушья невыносимая больница в Минске. Там я должна жить...
- Брата своего не встречали в городе? - спросил Алексей Григорьевич.
Я не сразу поняла.
- Какого брата?
- Ну, Павла Романовича... Он теперь в Минске. Ищет вас... Надеюсь, вы понимаете, что при вашей работе...
- Нет у меня брата, - оборвала я командира, - и бояться вам нечего. Я Семенова, Люба Семенова, и никого у меня не осталось.
Все помолчали.
Потом Василий Иванович сказал:
- Мы верим вам. Поможем и от брата защититься... Вы подумайте, кого подобрать на ваше место. Пока что вы там еще очень нужны.
На том и кончили разговор.
Никогда еще я не покидала партизанский лагерь с таким тяжелым грузом предчувствия. Тяжко было думать о сыне. Если раньше я жила надеждой с первыми теплыми днями забрать его в лагерь, то теперь все как бы снова сугробами замело. Пока я в Минске, пока я Люба Семенова, мне можно только думать о сыне. Вспоминать и плакать тихонько, чтобы никто не спросил: "Отчего ты, Любочка, плачешь?" Возвращаюсь в темное царство. В кармане бабьего кожуха фальшивая справка о том, что направляюсь на лечение в городскую больницу. Под двумя юбками зашиты адреса новых явок, новых связных на случай провала... Что меня ждет? Кто меня ждет?.. Брат, родной брат Павел... За что мне еще эта мука?
Покидала Люба Земляны. Покидала одна...
На рассвете в лощине у брода заяц варил пиво. Варил, видать, на сырых прошлогодних листьях, иначе с чего бы потянуло оттуда таким сизым, как дым, туманом?
У стариков приметы точные. Пасечник так и сказал:
- Заяц варит пиво.
Но Николаю было не до шуток. И попытка хозяина развеселить его только раздражала. Приперся, старый, когда никто его не просил. Сушеных грушек Любе принес, медку глиняный горлачок... За это, конечно, спасибо. Ей там не сладко живется. Ну и ушел бы. Так нет, до последней минуты торчал. Не дал попрощаться как следует. Хотелось-то ведь не просто ручку пожать, сказать "счастливой дороги"... Смутно стало на душе у Николая. Один остается... Одинешенек... Он смотрел, как легкий командирский возок с расписной спинкой увозил одетую по-деревенски Любу. Возок довезет ее только до Медвежина и вернется. Люба пересядет в простые крестьянские сани, а возок вернется.
Караковый жеребец шел ровной иноходью, отбрасывая комья вырванного подковами слежалого снега. Люба уплывала все дальше и дальше, то окунаясь, то на мгновение выныривая из белесых косиц тумана.
Вот она повернулась, помахала рукой и, наклонившись на бок, смотрит на Николая. Смотрит долго, пока дорога не ушла вниз, в закрывшую все серую мглу. Николай передернул плечами, сбрасывая с себя холодную дрожь.
- Слушай, папаша, - глуша досаду, спросил стоящего рядом старика, - где тут у нас этот заяц пиво сварил? Самый раз бы сейчас...
Старик понял его.
- Я, товаришок, этим не занимаюсь, а по деревне найти можно. Да, говорят, для вас строгий приказ вышел?
- Меня пока это еще не касается...
Сказал, и самому стало противно оттого, что сказал как чужой, которого еще не касаются партизанские порядки.
- Ладно, обойдемся и без вашего зайца.
Ушел, сдвинув фуражку на лоб. Ушел не в хату, а на улицу, в сторону, противоположную той, куда уехала Люба.
Часть четвертая
I
Люба:
В Медвежине, где размещалась наша спецгруппа и меня ждала крестьянская подвода, я узнала о событиях в Минске. О провале почти всей моей группы. Эти сведения еще не успели дойти до главного штаба. Если бы там уже знали, возможно, я задержалась бы в Землянах. Вернуться или остаться в Медвежине и переждать?
Видно, об этом же подумывал и комиссар спецгруппы товарищ Будай. Он спросил меня:
- Не слишком ли много риска сейчас идти тебе в Минск?
Конечно, очень рискованно... Но и он и я понимали, что именно теперь там нужен опытный человек, способный найти и подготовить новых связных. Надо идти...
- Пойдешь с Галей-украинкой, - сказал Будай.
Вот как? Я насторожилась, даже запротестовала. Я слыхала об этой Гале-украинке. Жила она в Минске, нигде не работала, считалась женщиной легкого поведения. Нет, такая попутчица не для меня.
Я и не заметила, как в хату вошла Галя. Она стояла, прислонясь к дверной раме, в дешевом демисезонном пальто с мокрым котиковым воротничком. В забрызганных слякотью резиновых ботах на молнии. Черные глазенки неподвижно уперлись в меня, а руки быстро и мелко перебирали ремешок сумочки, как четки, туда и обратно.
Она совсем не походила на ту, которую в городе мы называли "немецкой подстилкой". Там она была веселой, развязной до наглости. Всегда одетой крикливо-кокетливо...
- И ты садись, - приказал мне Будай.
Я опустилась на скамью под тяжестью Галиных глаз.
Это первое наше знакомство я осмыслила через несколько месяцев, уже во Франции. При очень сложных для меня обстоятельствах. А тогда не могла побороть в себе двойственного отношения к Гале. С одной стороны, бедная девушка вызывала чувство брезгливого отчуждения, с другой - жалость и чисто женское любопытство. Как она решилась?