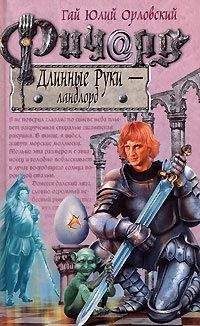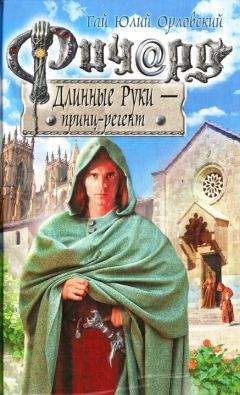Ирвин Уильям - Дарвин и Гексли
Но, несмотря на весь свой скепсис, Гексли быстро развил бурную деятельность. Уже в 1858 году он начал проявлять признаки воинственности, выдавая эволюцию на пробу в лекционных залах и заключая свои письма зловещими постскриптумами. Когда «Происхождение» вышло в свет, он сразу же понял, какая вокруг него разыграется битва. «Надеюсь, — писал он Дарвину, — Вы ни в коем случае не позволите себе негодовать или огорчаться из-за всех наветов и передержек, какие, если я только не ошибаюсь, теперь на Вас посыплются». И в конце письма прибавил: «Я уже точу свои когти и клюв, чтобы быть наготове». За полгода до этого подобное заявление могло встревожить Дарвина не меньше, чем встревожило бы его противников, но теперь, после той травли, которой он подвергся, даже в этом беззлобном человеке закипал гнев.
Да, Англия перезрела как осенний плод, и все-таки к «Происхождению» она была ужасающе неподготовлена. Оно повергло умы отечества в смятение, как призрак Банко — Макбета. «Происхождение» с неизбежностью протягивало нить аналогии от природы к человеку и сделалось своего рода антибиблией. И подобно тому как библия столько лет считалась трактатом по биологии и геологии, так «Происхождение» сделалось трактатом религиозным и этическим, а со временем также политическим и социологическим. Сами ученые не знали, как на него отвечать — то ли с позиций науки, то ли с позиций богословия, — и нередко в совершенном неистовстве высказывали самые непоследовательные и противоречивые суждения. Редко случалось научному бесстрастию подвергаться столь суровому испытанию и столь бесславно из него выходить. То вдруг какой-нибудь зоолог объявлял, что готов прочесть эту книгу, но ни за что ей не поверит. То восторженный этнограф кричал, что в ней нельзя изменить ни одного слова, но ни единого нельзя и принять. «Ляйелл, — писал Гукер, — положительно не в силах от нее оторваться». И однако, тот же Ляйелл жалобно упрашивал Дарвина ввести в книгу хоть самую капельку промысла божьего, хоть «крупицу пророческой благодати». Юэл писал, что эта книга слишком внушительна, чтобы критиковать ее поверхностно, однако не разрешил, чтобы хоть один ее экземпляр хранился в библиотеке оксфордского Тринити-колледжа. Великий математик сэр Джон Гершель[103] был уязвлен не столько безбожием, таящимся в самой основе естественного отбора, сколько мелочной неряшливостью, которая приписывается им матери-природе. «Не закон, а сплошное вкривь да вкось», — грозно изрек он, нагнав страху на оторопевшего Дарвина. X. К. Уотсон[104]написал Дарвину, что он произвел величайший переворот в биологии XIX века, и в то же время огорчил его, прислав пожелтевший оттиск в подтверждение того, что сам высказывал очень похожие мысли уже много лет назад. Ф. Э. Грей считал, что «Происхождение» — это тот же Ламарк, и ничего больше, и решительно не мог понять, чего ради подняли столько шума.
«Происхождение видов», как уже говорилось, побудило кой-кого из самых маститых ученых удариться в чистейшее богословие, хотя, где тут кончалось религиозное рвение и начиналась профессиональная зависть, подчас определить нелегко. Многие возражения происходили от неверного представления о том, что такое теоретический метод. Естественный отбор нельзя увидеть в действии. А раз так, он-де не более как пустое измышление. Впрочем, в более специфическом смысле камнем преткновения был сам естественный отбор. Казалось, что он подменяет разумный порядок и целесообразность в природе случайностью или, как представлялось некоторым, чисто механическим процессом. Строго ограничив свои богословские суждения рамками примечаний, Гершель в своей «Физической географии Земли» заявил, что ему лично нисколько не претит мысль о том, что посредством научных законов вселенский разум объективно и безлико творит свое дело. Но ни вселенский разум, ни такое осмысленное устройство, каким является органический мир, никоим образом нельзя рассматривать как порождение случая. Да, естественный отбор — остроумная гипотеза, но, разумеется, к ней нельзя относиться серьезно. В ней упущен изначальный и решающий фактор. Американец Аза Грей, горячий и искренний дарвинист, придерживался того взгляда, что естественный отбор вовсе не означает господства случайности, а, напротив, есть воплощение слепой необходимости, совершенно несовместимой с теизмом, если только не считать, что сами изменения протекают по предначертанному руслу.
Дарвин в своих письмах парировал эти нападки с величайшим терпением, показав, между прочим, что, когда того требуют обстоятельства, он не отступит и перед метафизикой. Естественный отбор нельзя увидеть в действии? Конечно. Закон тяготения тоже нельзя. Его выводят из результатов. Досталось от Дарвина и астроному Гершелю, которому понадобилось так много промысла божьего в биологии и так мало в астрономии. Впрочем, Гершель вообще брюзга. Когда Аза Грей с надеждой заговорил о том, не могут ли изменения направляться кем-то стоящим над миром, Дарвин был само сочувствие, сама готовность понять. Но что поделаешь, когда очевидно, что чем больше в изменчивости божественного промысла, тем менее правдоподобен естественный отбор. Мало того, изучение домашних животных убедило его, что изменения совершаются без всякого предначертания свыше. Ну какой интерес богу потакать людям в такой блажи, как выведение голубя-дутыша или голубя-турмана? Когда нужно было отстоять целостность собственных принципов, Дарвин не медлил, но и не спешил углубляться в область богословия. Он был очень рад, если кто-нибудь из лиц духовного звания подтверждал теизм его книги, но сам не склонен был этого делать.
В эпоху, когда о религии толковал каждый, когда атеисты не уступали в догматизме церковникам, а агностики писали толстые труды о своем неведении, Дарвин до конца дней не изменял тактичной и благоразумной сдержанности. Он боялся оскорбить сокровенные чувства верующих и считал, что его религиозные взгляды — это его личное дело, как для других викторианцев — их собственность. Когда на него слишком уж наседали, он нервно ссылался на то, что слишком нездоров, слишком занят, слишком стар, наконец, чтобы размышлять о религиозных вопросах, или отговаривался тем, что это не его область, что он над такими вещами глубоко не задумывался и ничего достойного внимания сказать не может. Но, понятное дело, когда столько людей вокруг него так много об этом говорили, он не мог не задумываться на сей счет хотя бы чуточку, а может быть, и очень основательно. Под конец жизни он высказался откровенно в «Автобиографии».
Как обычно, он рассматривал предмет исследования — в данном случае самого себя — в развитии. Его религия истаяла перед лицом науки; это была борьба «на выдержку», такая постепенная, что он, по собственным словам, «даже не огорчился», когда все было кончено, и вряд ли заметил, что гром уже прогремел. Вскоре после возвращения в Англию, все еще колеблясь меж эволюционной и богословской биологией, он обнаружил — и, несомненно, с изумлением, — что стал совершенным скептиком в отношении апокалипсиса. Его представления о прогрессе, об эволюции — и как следствие его гуманизм — сыграли тут решающую роль. Он увидел, что священные книги и мифология составляют непременную часть эволюции каждого народа. «Ветхому завету можно доверять не более, чем священным книгам индусов», не только оттого, что «мировая история в нем явно искажена», но и оттого, что «бог наделен чувствами мстительного тирана». Он отвергал христианские чудеса, потому что они были слишком похожи на чудеса в преданиях других народов, основывались на сомнительных и противоречивых свидетельствах и шли вразрез с униформизмом, усвоенным им от Ляйелла. Он отрицал также божественность Иисуса и сомневался в превосходстве христианской этики. «Прекрасна мораль Нового завета, и все же едва ли можно отрицать, что совершенство ее до известной степени связано с тем толкованием, какое мы ныне даем метафорам и аллегориям». Определенно, Дарвин до мозга костей проникся духом прогресса. Френсису Гальтону[105] в письме, не помеченном датой (но, очевидно, относящемся к 1879 году), он писал: «От общепринятых религиозных верований я отказался почти самостоятельно, в результате собственных размышлений».