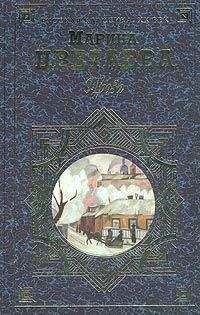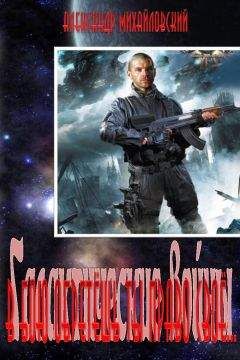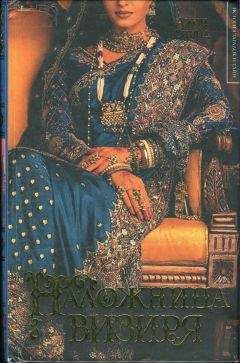Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране
В камере я стал уже другими глазами смотреть на моего соседа. Объяснение крошкам на губах и волосам на голове нашлось. А что, если он тоже видел эту надпись? Тогда бы стер, наверное.
А нельзя ли использовать Тараканова против следствия? Мысль интересная.
Я как бы невзначай стал ему то и дело рассказывать о своей жизни в Кокчетаве и о знакомых, конечно. Рассказал, за что меня тут пытают, за какую-то «Тройку Пик», сами следователи, мол, придумали и довели Альберта до отчаяния, и он в этой выдумке признался. Но на суде-то он наверняка откажется от своих вынужденных показаний!
Через неделю Тараканова в моей камере не стало.
Снова потянулись дни. Согласно Процессуальному кодексу, следствие должно быть закончено за 60 дней, продление возможно лишь после разрешения прокурора. Конечно эти параграфы — чистая формальность, особенно если речь идет о следствии в КГБ. Но нужно учитывать и то, что Альберт сидит уже, по меньшей мере, два месяца. Во всяком случае они торопятся. Видимо, я теперь единственное препятствие для окончания следствия.
Пальцы ног моих за эти два месяца затянулись новой кожей, но ногти все еще не росли. Ознобы и кашель по вечерам стали реже, и, видимо, этого было достаточно для тюремных врачей, чтобы разрешить вести дальше следствие. И вот однажды послышалась знакомая команда: «Собраться без вещей», и я оказался в следственной комнате, где меня уже ждали Баймашев и Пирожков. При Пирожкове Баймашев старался показать особо мягкую дипломатию следователя: он обращался на «вы», не позволял никаких грубых слов и даже часто интересовался, не утомился ли я от допроса. В этот раз он мне поставил только один вопрос: «Какие антисоветские анекдоты вы слышали от Гены Авдеева?». На что, естественно, последовал мой ответ, что никаких анекдотов я не слышал. Видимо, он и ждал от меня именно этого ответа, так как моментально торжествующе заявил:
— Ну вот, тогда послушаем, что сам о себе расскажет Авдеев!
И через минуту в комнату ввели Гену и посадили на отдельный стул поближе к столу следователя. Вид Гены меня очень расстроил: на его старом пиджачке не было ни одной пуговицы, на колене одной из брючин дырка, под пиджаком какой-то потрепанный свитер. Худое и бледное лицо его было сосредоточенно-серьезным, чего я раньше никогда не замечал, и лоб наморщен, как будто бы он был чем-то раздосадован. Он посмотрел на меня и, вероятно, мой вид потряс его, так как только после большой паузы он сочувственно кивнул мне.
Я стараюсь догадаться, арестован он или нет. И убеждаюсь, что нет, так как он пришел со свежей газетой и с хозяйственной сумочкой, в которой что-то лежало.
— Гражданин Авдеев, известно ли вам сидящее перед вами лицо?
— Да.
— Отвечайте: да, известно.
Молчание.
— Ну да ладно, как зовут сидящего перед вами человека?
После некоторой паузы:
— Вы же сами отлично знаете.
— Если вы будете препятствовать следствию, то мы составим протокол.
Снова пауза.
— Гражданин Авдеев, повторите еще раз, какие антисоветские анекдоты вы лично рассказывали сидящему перед вами лицу и какие от него слышали.
— Никаких не рассказывал и никаких не слышал!
Я слышу и ушам своим не верю. Вот это Гена! А Баймашев выпучил глаза и даже встал из-за стола.
— Гражданин Авдеев, за ложный отказ от своих собственных показаний вы будете привлечены к уголовной ответственности по статье 92 УК!
— Все эти показания из меня выбили!
— Пирожков! Уведите свидетеля!
Пирожков медленно поднимается с ироническим выражением лица. «Ну, пошли», — обращается он к Гене. Гена, проходя мимо меня, сует мне в руки свою сумочку.
— Никаких передач! — уже вопит Баймашев. — Пирожков! Уводите же его.
Пирожков берет Гену за плечи и мягко толкает к двери. В этот момент Гена достает из кармана еще большой белый бублик и старается бросить его мне, но так с этим бубликом его и выталкивают в дверь.
У меня прекрасное настроение — в нашей организации есть еще Люди!
На следующий день опять очная ставка, на этот раз с матерью Альберта. Когда ее ввели в кабинет, она была вся закутана в шерстяной платок. Ее посадили так же, как и Гену, и я заметил, что она стала почти совсем седой. На меня она даже не посмотрела, как будто бы меня здесь и не было.
— Итак, повторите еще раз, как и когда происходили сборища «Тройки Пик» на вашей квартире, — вопрошает Баймашев.
Молчание. Она смотрит в окно остекленевшими глазами и продолжает молчать.
— Тогда повторите, какие слова вы слышали из комнаты собравшихся.
Снова молчание.
— Гражданка Асейко, должен вас предупредить: вы очень усугубляете положение вашего сына!
Видно, что Баймашев хорошо подготовился — он оперирует грамматически правильными русскими фразами. Но театра не получалось.
Мать не шелохнулась, и стало видно, как из ее широко раскрытых глаз, устремленных в окно, начали течь слезы.
— Подумайте, что вы сейчас делаете, вы препятствуете следствию!
И тут голова ее рухнула на колени. Она закрыла лицо руками и стала громко, истошно рыдать, затем просто вопить.
Минута, две, три… Рыдания только усиливаются. Баймашев в растерянности. Наконец он идет к двери и зовет дежурного, чтобы ее увели. Ее уводят, и тогда Баймашев, успокоившись, после паузы, бросает фразу:
— Больная женщина. Мать все-таки. Но она придет в себя.
После этих двух очных ставок мне стало ясно, что, видимо, других свидетелей у них нет, и от меня они не получили показаний, это значит, что нажим усилится. Но где же Юра, какая же мы «Тройка Пик» без него? Неужели ему удалось бесследно скрыться?
Несмотря на то, что я оставался все еще больным, на следствие меня продолжали таскать ежедневно. Снова началось: «Как сидишь?!», и крестец мой начал снова болеть.
Однажды вечером я услышал из соседней камеры плач и стоны женщины, они то стихали, то возникали вновь. Никаких слов, только стоны. По ним нельзя было понять, сколько лет этой женщине и кто она. Отчего стонут и плачут в КГБ, я уже знал, и поэтому сердце мое разрывалось. Плач почему-то начинался утром, но что меня больше удивляло, так это некоторая театральность этих стонов.
Как-то утром, перед тем как вызвать меня на допрос, я отчетливо слышу за дверьми голос Баймашева, он обращается к разводящему сержанту:
— …смотри, только очень осторожно, чтобы он с матерью не встретился!
«С матерью!» — пронзило меня, с моей, значит, матерью, она здесь! Нет, не может быть, моя мать не плачет и тем более не рыдает. Я этого никогда в своей жизни не видел. Значит, это опять «театр», специально для меня!