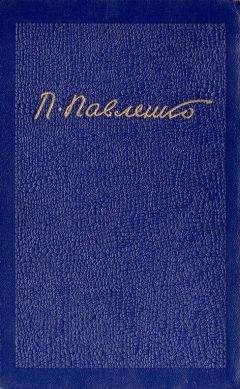Константин Поливанов - Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения
Ощущение себя «иностранцем» в «роще портиков», сооруженной по проекту «русского в Риме» – архитектора Воронихина, могло отозваться в цветаевских строках об их московских прогулках среди соборов, построенных итальянскими зодчими: «Торжественными чужестранцами / Проходим городом родным».
Но помимо мандельштамовского стихотворения «претекстом» цветаевского, вероятно, было и стихотворение другого петербургского поэта – Василия Комаровского, где также связывались Италия и Россия, Рим и Москва. Стихотворение Комаровского из цикла «Итальянские впечатления» Цветаева могла узнать от Мандельштама, если оно ей не было известно до того.
Как Цезарь жителям Алезии…
В. БрюсовКак древле – к селам Анатолии
Слетались предки-казаки,
Так и теперь на Капитолии
Шаги кощунственно-тяжки.
Там, где идти ногами босыми,
Благословляя час и день,
Затягиваюсь папирос<ами>[143]
И всюду выбираю тень.
Бреду ленивою походкою
И камешек кладу в карман,
Где над редчайшею находкою,
Счастливый, плакал Винкельман!
Ногами мучаясь натертыми,
Накидки подстилая край,
Сажусь, а здесь прошел с когортами
Сенат перехитривший Кай…
Минуя серые пакгаузы,
Вздохну всей полнотою фибр
И с мутною водою Яузы
Сравню миродержавный Тибр!
Кроме тождества ритмического рисунка – четырехстопный ямб с чередованием дактилических и мужских рифм и объединяющего оба стихотворения мотива прохода через город иностранца, можно отметить еще реки (Тибр и Яузу) у Комаровского, корреспондирующие со строкой «помедлим у реки, полощущей…», курение – «затягиваюсь папиросою» и «и медленно пуская дым». Четырехстопный ямб с таким чередованием рифм помимо брюсовской традиции, к которой отсылает эпиграф у Комаровского, связывался в начале 1910-х годов с «Незнакомкой» Блока[144].
Героиня Блока – таинственная, непохожая на других, проходит через обыденный, пошлый, чуждый ей мир. Так же чуждыми привычному окружающему миру, в первом случае – Петербурга, во втором – Москвы, оказываются идущие «сквозь рощу портиков» у Мандельштама и «торжественные чужестранцы в родном городе» у Цветаевой[145]. Лирический герой Комаровского – «русский в Риме» (говоря словами Мандельштама), естественно, чувствовал себя чужим в незнакомом городе (напомним, что Комаровский не был в Италии ни разу – это придавало в глазах читателей особое значение его «Итальянским стихам»). Для него использование блоковского ритма было, очевидно, наиболее содержательно мотивированным.
Таким образом, среди подтекстов цветаевского стихотворения на содержательном уровне можно предположить стихи самого адресата – Мандельштама, а на содержательном и ритмическом – Блока и Комаровского.
«Говорят, что я проста…» Литературные отношения Федора Сологуба и Анны Ахматовой
Рассматривая и интерпретируя поэтические тексты 1910-х годов А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, Ф. Сологуба, и сталкиваясь с проблемой реконструкции той атмосферы, в которой они писались, исследователи литературы Серебряного века почти неизбежно оказываются во власти представлений, основанных на фактах и текстах уже совершенно иной культурной эпохи.
Расстрел Гумилева, полная лишений жизнь Мандельштама 1920– 1930-х годов, его гибель, вся судьба Ахматовой в 1920–1950-х годах, логической кульминацией которой было ждановское постановление 1946 года, равно как и стихотворения «Anno Domini» и «Requiem’a», трагизм которых основывался на конкретных фактах жизни страны и автора – все это не могло не влиять на последующее восприятие текстов, написанных до 1914 или до 1917 годов.
Тем не менее можно предположить, что тексты 1910-х годов помимо «серьезного», патетического смыслового уровня неизбежно должны были обладать и каким-то «игровым», «домашним», ироническим смыслом, могли вызывать, по крайней мере у ближайшего дружеского и литературного окружения поэтессы, не столько острую жалость к «томящейся в неволе» и «молящей господа о смерти» лирической героине, но и улыбку от, может быть, нарочитого обыгрывания черт жертвенного смирения ее, то уступающей возлюбленного торжествующей сопернице, то терпеливо сносящей побои мужа («муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем»).
Вспомним ахматовскую любовь к «веселости едкой литературной шутки» или ее собственные слова, что в начале 1920-х годов от нее ждали уже привычно лаконичных стихов на «женские» темы, но в соединении с новыми реалиями типа
Вышла Дуня на балкон,
А за ней весь Совнарком.
О литературных шутках Ахматовой можно прочесть и в воспоминаниях К. И. Чуковского: «…В литературной жизни я редко встречал человека с такой склонностью к едкой иронической шутке, острому слову, сарказму <…> Когда Анна Андреевна была женой Гумилева, они оба увлекались Некрасовым, которого с детства любили. Ко всем случаям своей жизни они применяли некрасовские стихи. Это стало у них любимой литературной игрой. Однажды, когда Гумилев сидел у стола и прилежно работал, Анна Андреевна все еще лежала в постели. Он укоризненно сказал ей словами Некрасова:
Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится, ему не сна.
Анна Андреевна ответила ему тоже цитатой:
…на красной подушке
Первой степени Анна лежит».[146]
Нужно признать, что «серьезность» восприятия отношений в петербургском околоакмеистическом кругу была результатом в том числе и многолетних стараний самой Ахматовой, которая начиная с 1920-х годов в разговорах с младшими современниками – П. Н. Лукницким, Л. К. Чуковской, многочисленными слушателями в 1950–1960-х годах стремилась к формированию собственной версии всего происходившего в 1910-х годах. Среди прочего Ахматова оспаривала «недобросовестных» мемуаристов, то есть тех, чья картина эпохи не совпадала с ее собственной. Постоянным предметом опровержений Ахматовой (с 1920-х годов и до конца жизни) были мемуары Георгия Иванова «Петербургские зимы». Несколько мемуаристов вспоминают, в частности, о ее возмущении утверждением Иванова о недовольстве Гумилева литературными успехами жены. Приведем этот фрагмент Иванова: «Еще барышней она <Ахматова> написала:
…И для кого эти бледные губы
Станут смертельной отравой.
Негр за спиною, надменный и грубый —
Смотрит лукаво!
Мило, не правда ли? Непонятно, почему Гумилев так раздражается? А Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи как на причуду “жены поэта”. И причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят – насмешливо улыбается. – Вам нравится? – Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает».