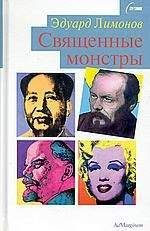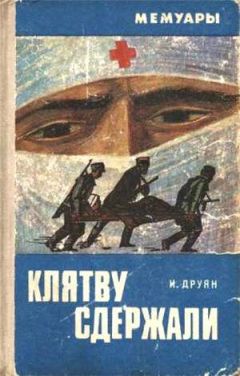Микола Садкович - Мадам Любовь
Я сидела в кузове на полу, надо мной в зубоврачебном кресле солдат с винтовкой, в кабине офицер. Прохожие оглядывались на нас, как мне казалось, с сочувствием. Везут русскую женщину под охраной, ясно - не на гулянку. Не знали эти добрые люди, кто тут кого сопровождает. Это развеселило меня. А когда проскочили контрольно-пропускной пункт - машина-то с пропуском, и офицер в ней - повеселела не одна я.
На полях лежал снег, лишь редко-редко где на взгорках темнели проталины, но нам навстречу уже струился теплый запах весны. Кругом простор, воля! Товарищ Боть наклонился ко мне:
- Не запеть ли нам песню?
Мы запели "Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка!..".
Из кабины высунулся Коля. Лицо его стало счастливо-мальчишеским. Он подмигнул мне и что-то крикнул. Не трудно догадаться, что он мог крикнуть... Я радовалась его счастью. Как хорошо сделать человека счастливым... Выглянет из кабины, встретится глазами со мной и то подмигнет, то поднимет большой палец или приставит ладонь к уху, похлопает: дескать, прохлопали нас фрицы.
Похоже, он совсем не думал о Шурочке. Его прямо распирало от счастья. А Миша Павлович сидел тихо. Он еще сомневался. Офицер, иностранец, как примут его партизаны?
Фашисты распускали слухи, что партизаны режут ножами всех иностранцев. Видимо, кое на кого эта пропаганда оказала влияние. Павлович договорился с подпольным комитетом перейти к нам целым взводом, а в последний момент многие отказались.
"Посмотрим, как пана поручика примут..."
Вот бы удивились они, увидев в наших отрядах и чехов, и поляков, и даже немцев.
...Без всяких происшествий мы въехали в партизанскую зону. Я постучала по крыше кабины и сообщила об этом. Боже мой, как запрыгал на своем сиденье Николай! Нажал на всю железку, во всю мощь сигналит. Из-за заборов люди испуганно выглядывают, собаки брешут, а в конце деревни какой-то старик вскочил на лошадь и ну нахлестывать к лесу - предупредить, что появилась немецкая машина. Николай вдогонку гудит. Я хохочу, требую остановиться.
- Черт сумасшедший! Нас же сейчас обстреляют. Выкидывай красный флаг!
Мы, если въезжали на немецком транспорте или в немецкой одежде, красный флаг поднимали. Ну, флаг не флаг, а хотя бы косынку или пионерский галстук. Иначе примут за врага, тогда шутки плохи.
Подняли мы на винтовке Шурину красную косынку, она ее загодя Николаю дала, и поехали спокойней. Снова я на свободной земле, под красным флагом. И снова подумала: "Останусь здесь, не могу больше... Согласна в разведку ходить, в засадах сидеть, мины закладывать, что хотите... Сына своего приведу. Весна началась... Я так ее ждала..."
VI
А весна, видать, только подразнилась. Только выслала вперед разведчиков, сама залегла в звонких оврагах, на мшистых болотах и косых приречных лугах где-то за набухающим Сожем, на Гомельщине, на границе с Украиной. Тут, на Минщине, снова завьюжило, закрутило белую саранчу, словно и не март на дворе.
Совсем было обесснеженный, черный лес вновь заискрился. По увалам осевшие сугробы повыпрямляли хребты, через дороги метнулись.
Партизаны и рады. Лучше нет защиты от "юнкерсов", чем вьюжная завеса над деревнями.
Отдыхают бойцы. Отогреваются в хатах за шумным столом, в деловой, серьезной беседе и в шепотной ласке. Кто с родной, кто и так, с доброй душой.
Хватало и работы. Шутка ли, сколько дней по лесным дорогам кружили. Есть и раненые, и захворавшие. Кони подбились.
Велики хозяйские хлопоты. В походе без малого две тысячи человек. Одного хлеба выпечь сколько рук надо. А постирать, обшить, залатать да поштопать?
Сколько же людей участвовало в партизанском движении? Тех ли только считать, кто винтовку держал, или вместе и тех, кто не давал им падать ни от голода, ни от холода?..
Освобожденные партизанами села и хутора наполнялись всеобщим радостным возбуждением, напоминая дни шумных районных слетов или народных праздников.
Двое суток Катерина Борисовна бродила среди партизан, как в тумане, вглядываясь в лица мужчин, словно все еще надеясь опознать веселого лесника.
Ни участливая ласка знавших Игната, ни добрые слова командира, сердечно разделившего ее горе, не утешали, как бы облетали ее.
Если бы она видела брата убитым, на поле боя или в гробу, в день торжественных похорон, когда над свежей могилой произносили суровую клятву Михаил Васильевич и отряд троекратным залпом проводил своего разведчика, она покорилась бы горькой судьбе.
Под вечер пришла в Земляны, где расположился штаб санного рейда. Несмотря на поздний час, из печных труб, как на рассвете, поднимался развеваемый ветром дым. Раскрасневшиеся, полногрудые хозяйки в кофточках с засученными рукавами то там, то здесь перебегали из хаты в хату, держа перед собой наполненное чем-то решето или несколько буханок теплого пахнущего тмином хлеба.
От черневшей у реки кузницы доносился дробный перезвон молотков и глухой гомон ездовых, приведших перековать коней, подтянуть железные подрезы, сделать новые сцепы вальков.
По протоптанным стежкам шли куда-то колхозники. Потолкавшись возле сельсовета, Катерина Борисовна спросила закутанного в тулуп часового с автоматом, охранявшего штаб:
- Куда люди идут?
- На кудыкину гору, - весело ответил часовой, радуясь возможности поговорить. - Не знаешь, что ль? Да ты сама откуль взялась?
- Откуль взялась, оттуль и приплелась, - устало ответила Катерина Борисовна.
- Ну и плетись далей, нечего снег месть. Тут у тебя делов быть не может.
- Правда твоя, - вздохнула Катерина Борисовна, глядя вдоль улицы, - нет у меня тут делов... Нигде нет...
Видно, не в словах, а в коротком, напечаленном вздохе уходящей женщины почуялось партизану неизжитое горе.
- В клуб иди... - уже другим голосом посоветовал он, - весь народ там. Новеньких на присягу собирают...
Ей все равно куда идти. Пошла за людьми.
На бугре, за выгоном, стоял совсем еще новый клуб, обнесенный низким, теперь изломанно торчащим из снега забором.
В просторном, гладко отесанном бревенчатом зале несколько молодых партизан и деревенских девиц сгрудились на узкой, оклеенной обоями эстраде вокруг пианино.
Горбоносый цыган, потряхивая смоляными кольцами чуба, бойко выбивал на пожелтевших клавишах знакомый мотив. Слова песни были новыми, переиначенными. Их старательно выпевали девичьи голоса, а басовитые, осевшие до хрипоты голоса хлопцев повторяли речитативом:
Ни жена, ни сестра нас не ждет у окна,
Мать родная нам стол не накроет...
Наши семьи ушли, наши хаты сожгли,
Только ветер в развалинах воет...
Катерина Борисовна тихонько опустилась на скамью в конце полупустого зала. Сизый махорочный дым, сгущая сумерки, медленно плыл над сидящими в кожухах, теплых платках и шапках колхозников. Пахло овчиной и самосадом.