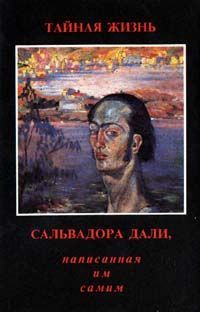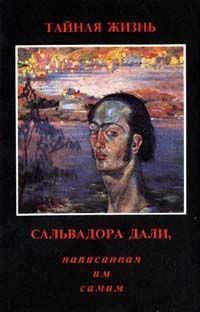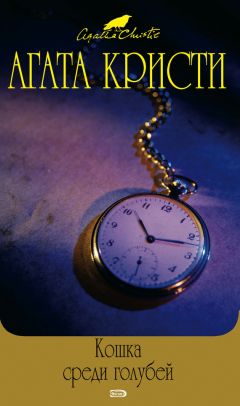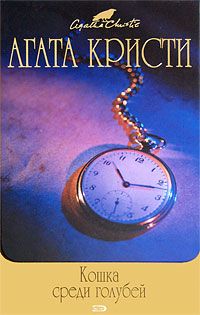Иван Лажечников - Походные записки русского офицера
Напрасно старался бы я описать минуту появления государей в театре: есть зрелища, которых ни язык человеческий, ни кисть выразить не в состоянии; есть случаи, производящие в нас такие чувства, в которых не можешь отдать ясного отчета. Опишу только некоторые черты этой картины.
Лишь только государи вступили в свою ложу, встречены они были громкими восклицаниями и рукоплесканиями, от которых, казалось, стонал и колебался театр. «Да здравствует Александр, наш покровитель, наш миротворец! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует Лудовик XVIII! Мир и Бурбонов!» – раздавалось беспрерывно во всем зале. Мужчины поднимали вверх шляпы с белыми кокардами; женщины и дети махали белыми платками, бросали в партер лилии. Монархи различными приветливыми движениями изъясняли несколько раз свою признательность публике. Наконец крики начали перемежаться; все зрители были тронуты до чрезвычайности; мужчины и женщины закрывали глаза платками, иные рыдали. Я видел, слышал, как вокруг и позади меня плакали; я видел, как воины, поседевшие на поле брани, не могли от слез удержаться, – и плакал сам, как ребенок. Повторяю: такое зрелище выше всех слов и описаний. Начали играть пьесу, и десять раз шумные клики и рукоплескания зрителей прерывали ее, так что актеры безмолвно стояли по нескольку минут, ожидая времени, когда можно им будет ее продолжать. Казалось, что сцена была местом зрителей и что само действие происходило между нами. Публика ловила в пьесе малейшее сходство с обстоятельствами времени и все, что могла обратить в приветствие скромным победителям. Потребовали известный народный голос: «Vive Henri IV!» Этот голос имеет в себе особенную прелесть для всякого, кто любит и чтит память добрых царей, для всякого, кто умеет чувствовать; но для души француза это Пифиев треножник. Трогательная, прекрасная музыка, воспоминания об Отце народа, о славной и несчастной его династии произвели новое волнение в зрителях. Несколько раз требовали сей голос, и всякий раз был он принят с новым восторгом. Зрители рукоплескали и плакали. Один из актеров, пропев известный куплет в честь Генриха IV («Французы на все скоры»), прибавил к нему экспромтом два следующие:
Vive Guillaume.
Et ses vaillants guerriers!
De notre royaume
Ils sont les boueliers[34]
* * *
Vive Alexandre,
Li modèle des Rois!
Sans rien préteudre,
Sans nous donner des leix,
Ce prince auguste
A le triple renom:
De Heros, de Juste,
De nous rendre Bourbon. B!)
Можно судить, какое действие произвели эти куплеты над зрителями, особенно над русскими и пруссаками. В продолжение пьесы они были несколько раз повторяемы и всякий раз сопровождаемы громкими рукоплесканиями.
При выходе из театра один из важнейших чиновников государственных во Франции (Талейран-Перигор) спросил у российского императора, остался ли он доволен французами. «Не сыщу слов, – отвечал государь, – чтобы выразить вам приятные для меня впечатления нынешнего вечера. Если бы я мог иметь когда мысль дать почувствовать Парижу бремя войны, то прием, сделанный мне жителями его, изгнал бы ее из моего сердца».
Страсбург, 12 июня
Маршрут наш на Страсбург. Почти все французские крепости среди грома войны видели союзные войска на стенах и в стенах своих.
Ныне великие монархи, уважая права и самолюбие народные, милостивой рукой отклонили от них стыд узреть победителей, возвращающихся на свою родину с торжеством мира и трофеями славы. Верст двадцать от Страсбурга, между этим городом и Гагенау, расположен наш Московский гренадерский полк. Поля здесь хорошо обработаны и плодоносны; деревни обширны и многолюдны; лица поселянок цветут здоровьем и руки земледельцев сильны. Чем ближе к Рейну, тем более люди и природа улыбаются.
Из окон моего жилища я мог рассматривать шпиль Страсбургской колокольни; мог даже примечать город, проглядывающий сквозь сизую пелену отдаленности. «Ныне дневка, – вздыхая, сказал я моему генералу. – Почему не осмотреть вам последний хороший город Франции и заставу его?» – «Поедем в него!» – отвечал он с обыкновенной снисходительностью. И мы через веселые, обширные равнины прискакали в Страсбург.
Внутренность города не соответствует тому, что обещала нам его наружность. Дома в нем высоки, но некрасивы: улицы тесны и мрачны; много считают в нем людей, но совсем нет таких, которые заслуживали бы внимание образованного путешественника.
Увидев отрывки здешнего гарнизона, я думал, что попал в вертеп разбойников. Страсбургские солдаты и даже хорошо воспитанные предводители их останавливают на улицах офицеров союзных войск (приезжающих сюда из любопытства и в надежде быть безопасными среди просвещенного народа), осыпают их низкими бранями и глупыми насмешками, которые делали бы стыд и самым населенцам диких степей. Рассказывали мне, что в одном из здешних трактиров несколько французских офицеров, окружив нашего храброго полковника Н., спрашивали его, за какие дела получил он знаки отличия, во множестве украшавшие грудь его, и когда он отвечал им, что приобрел некоторые за битвы под Бриенном, Арси и Парижем, они покушались сорвать с него кресты и, верно, докончили бы свое гнусное намерение, если бы обиженный не сохранил всего благородного и благоразумного своего хладнокровия. Французам стыдно видеть на головах победителей лавры, пожатые на полях их отечества. Для чего же не мешали они славной жатве сей? Для чего же ныне толпе бродяг, окутанных в одежду воинов, силиться срывать венки, которыми вселенная почтила героев?.. Напрасно стараются господа страсбургцы, в бессильном и ни для кого не вредном гневе своем, сбросить на нас стыд свой – это басня издыхающей змеи, которая шипит и изливает еще яд свой на победоносного царя пернатых, под солнцем парящего.
Что заманило нас в Страсбург из мирного нашего жилища? Колокольня соборной церкви. Для нее приехали мы и первую ее пошли осматривать. Она почитается высочайшей башней в Европе; вышина же ее 93 сажени. Нельзя не принести дани удивления тонкому искусству, с которым, на готический вкус, обделан прозрачный шпиц ее; невозможно отказаться от любопытства взойти на ее вершину по извивающейся змеей лестнице. На вершине забыл я усталость – так приятно было на ней находиться! Какая смелая высота! Какие прелестные виды! Деревни и рощи вокруг Страсбурга чернеются, как точки; ряды гор, волнующиеся сизой нитью, теряются в отдалении. Далее зрение отказывает служить мне; будь оно совершеннее, и я увидел бы седые челы Альпийских гор. Глядя на город, воображаешь, что держишь его на ладони своей; взглянув на народ, думаешь видеть семью муравьев, взад и вперед ползущих и перебирающихся в норы свои. Невозможно долго глядеть вниз: голова начинает кружиться, и сердце замирает от ужаса при одной мысли – слететь с колокольни. Здешние часы почитались одним из великим произведений механики. Художник поручил двенадцати апостолам означать части дня и ночи, послушные его искусству, они приходили попеременно извещать городских жителей о каждом новом часе. Я хотел полюбоваться этим чудом механики; но мне объявили, что они испорчены.