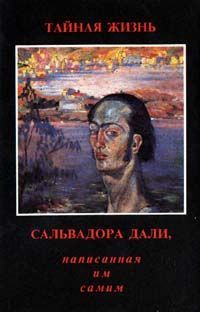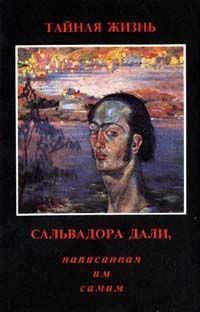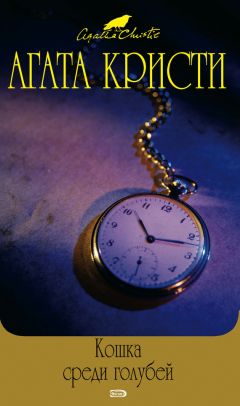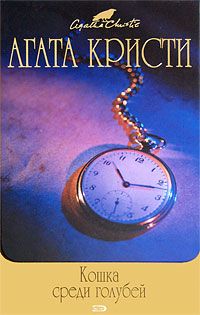Иван Лажечников - Походные записки русского офицера
Там же, 20 марта поутру
Казаки расположили свой стан на Елисейских Полях: зрелище, достойное карандаша Орловского и внимания наблюдателя земных превратностей! Там, где парижский щеголь подавал своей красавице пучок новорожденных цветов и трепетал от восхищения, читая ответ в ласковых ее взорах, стоит у дымного костра башкирец в огромной засаленной шапке с длинными ушами и на конце стрелы жарит свой бифштекс. Гирлянды и флеровые покрывала сменены седлами и косматыми бурками. Не куплетам стихотворцев, воспитанных самими Грациями, наставленных самим Эротом, здешние рощицы внимают: они слушают песни донских трубадуров, на хребте диких коней взлелеянных, на концах копий вскормленных и простой природой наученных. Воин, мечтавший о первенстве мира перед всеми другими, провозгласивший себя победителем Вселенной, со страхом обходит лес копий, перенесенный в столицу мира из степей азиатских. Жандармы и наемная полиция деспота, носившие угрозу и ужас между своими согражданами, уступили права свои воинам, прилетевшим с берегов Дона, Волги и Амура и разъезжающим ныне около Елисейских Полей для охраны жителей, своих неприятелей. К этим чертам превратности земной надобно прибавить вид начатых, при входе в Елисейские поля и при выходе из Парижа, прекрасных торжественных ворот (Arc de Triomphe), начатых – и очень кстати недоконченных, как будто для того, чтобы ознаменовать собой Наполеоново величие. Любуясь этим зрелищем, читаю в нем новое разительное удостоверение, что высокомерию нашему, забывшему пределы человечества, всегда Свыше напоминаются они уроком жестоким – и полезным, когда зрители его хотят им воспользоваться.
Вчера к вечеру гренадеры перенесли бивуаки свои с Елисейских Полей к Булонскому лесу. «Булонский лес? Боже мой! Расскажите нам что-нибудь об этом парке, знаменитом поединками и самоубийствами!» – кричат мне пламенные рыцари из угла мирной спальни своей, из-под розового одеяла.
Погода очень дурна, господа! И для того я не имел еще охоты заглянуть в этот дедал, куда сумасбродные поклонники зеленого стола, часто бутылки и реже всего пламенника Амурова ходят искать конца жизни, проведенной без пользы себе и ближнему. Но если вы любите внимать грому – не на поле брани, не на поприще истинной чести и следственно истинной славы, – если вы любите внимать стуку мечей, пистолетным выстрелам, стону умирающих и видеть трупы, в крови плавающие, то разверните новейшие романы, которые так скоро расходятся у наших книготорговцев. Можете также удовлетворить своему желанию, заглянув в парижские листки, наполненные ужасными битвами, а иногда одними страшными вызовами, которых слава отдается несколько дней в тамошних кофейных домах. К утешению же вашему скажу, что Булонский лес имеет несколько просек, довольно искусно расположенных, что он содержится в большой чистоте и простирается от севера к югу на 2400 туаз (1 французское лье), а от востока к западу на 1110 туаз. Какое обширное поприще для рыцарских подвигов! Сверх того, бывают здесь несколько раз в году самые блистательные гулянья. За месяц или прежде до рокового дня парижские красавицы утраивают ласки к старым поклонникам своим, жена чаще принимает мужа в свое отделение, и молодой повеса, почти каждый день до утренней звезды, возвращается под кров родительский: все это для того, чтобы в день гулянья собрать венки похвалы с толпы народной и оспорить торжество у соперников – экипажами и лошадьми. Судя по рассказам, можно сравнить эти гулянья с тем, какое Марьина роща представляет 1 мая. Говорят, что многие герои праздника в Булонском лесу меняют на другой день роль свою; из гордых требователей превращаются в униженных просителей и торжественные колесницы свои отдают за бесценок неумолимым кредиторам. Не знаю, дошли ли у нас богатые тщеславием и бедные расчетливостью до такой степени безрассудства.
Мы собрались обществом в Париж и для доставления нас туда наняли огромный фиакр в две лошади, превысокие и тощие. Вообразите себе экипаж актеров, едущих на репетицию, и можете иметь самое верное понятие о нашем рыдване с упряжью. Глядя на него, любуясь его почтенной древностью, освященной ржавым клеймом полвека, я думаю о том, сколь любопытна была бы его история. Искусное перо, начертав ее, подарило бы нам историю самого Парижа от последнего несчастного короля французского до взятия столицы. В этом фиакре мы увидели бы, может быть, и палача, обрызганного кровью государя своего, и гордого члена адского Робеспьерова судилища, и робкого кавалера Святого Лудовика, изгоняемого ужасами гильотины из своего отечества. В нем представился бы нам: во-первых, мамалюк первого консула, прибывший с ним из неудачной экспедиции в Египет; потом возглашатель побед императора от Тага до Оки, взятия Вены, Берлина, Мадрида, Москвы; после того – шпион кровожадного самовластителя, присланный с несчастной переправы через Березину наблюдать, в продолжение новой жатвы людей, за каждым словом, за каждым движением и взором парижских жителей. Наконец, в этом фиакре мы увидели бы себя, то есть шесть русских офицеров, едущих осматривать редкости и красоты Парижа на другой день торжественного в него входа.
Там же, 21 марта в 12 часов ночи
Только два дня здешняя Талия молчала: день, в который громами решалась судьба столицы Франции, и тот, в который Париж принимал в свои стены победителей. По сему образчику можно судить о любви французов к зрелищам и о легкости их характера. Мне кажется, что тайна самого правления этим ветреным народом состоит в спектаклях. Опыты XVIII столетия и начало XIX удостоверяют нас в этом заключении. Не ошибался хитрый самовластитель Франции, умев всю славу и величие народные представить в зрелищах – разумея не на одних театрах, но и в блестящих празднествах, в памятниках! Ослепив, оглушив французов блеском и громом их имени и деяний, он делал из них что хотел. Но – обратимся к театру.
Нынешний вечер назначено было в Большой Опере (le Grand Opéra) «Торжество Траяна» – пьеса, в которой соединено все, что искусства и пышность могут представить изящнейшего в декорациях, костюмах, танцах и музыке; пьеса, нарочно сочиненная для насыщения честолюбивой души Наполеона в счастливые времена побед его. Прельщенные рассказами о блеске и красоте этой оперы, а более слухами, что российский император и прусский король удостоят ее представление своим присутствием, я поспешил с военными товарищами в театр в 4 часа. Многолюдство и теснота при входе в него были столь велики, что мы насилу могли продраться до билетов. Ложи все уже были заняты; с трудом нашли мы себе места в партере, и те на задних лавочках. Сначала досадовали мы на участь свою, но после нашли ее завидной, увидев, что позади нас сидели иностранные и наши государственные чиновники, министры и генералы (между которыми находился и князь Трубецкой, один из любимых наших корпусных начальников). Признаюсь, что огромная величина театрального зала, правильность и красота его архитектуры, богатство и вкус его украшений, особенно пышность Наполеоновой ложи, меня изумили; но более поразило меня необыкновенное зрелище нескольких тысяч посетителей, собравшихся здесь со всех концов Европы. Говоря на разных языках, отличаясь друг от друга одеждой, нравами, обычаями, не согласные доселе один с другим в мнениях и чувствах, посетители эти принесли сюда одну мысль, одно чувство: желание мира и свободы. Мне казалось, что представители многочисленных народов полушара нашего пришли праздновать здесь эти свободу и благоденствие рода человеческого. Всеобщий восторг, произведенный согласными желаниями, не мог долго таиться в сердцах зрителей. Скоро с изъяснениями признательности французов к великодушному монарху российскому и венценосному его другу присоединился голос народной любви к законному государю. Раздались по всему залу громкие восклицания: имена Александра и Фредерика слились с именами Лудовика XVIII и Бурбонов. Сорвана с Наполеоновой ложи ненавистная вывеска деспотизма, и место плотоядного орла заняли скромные лилии Святого Лудовика и доброго Генриха IV. В партере брошены были кокарды белые; их схватили с восторгом и украсились ими при громких рукоплесканиях. Но вдруг глубокое молчание воцарилось в зале: поднялся занавес, актер вышел на сцену и объявил зрителям, что, по болезни одного из собратьев его, «Торжество Траяна» отменяется, а вместо него назначаются «Весталки». Надобно было видеть и слышать в эти минуты, как всеобщий восторг превратился в единодушное негодование. Весть о несчастной перемене в правлении не могла бы произвести в народе большего волнения. Дунет ласковый зефир – и пышная роза чуть качается на стебле своем, и человек спокойно катится по зеркалу вод; дунет свирепый Борей – и столетние дубы ложатся вверх корнями, и корабли крушатся на треволненном море: таков характер французов. «Обман! – закричал единогласно целый театр. – «Траяна»! «Траяна»! Или больного актера на сцену!» Напрасно употреблял актер все красноречие, чтобы уверить публику в истине слов своих: публика была неумолима, требовала «Траяна» и грозила сцене бурей. Театральный вестник просил по крайней мере позволения отнестись об этом случае к императору Александру. «Хорошо! Пусть будет как ему угодно!» – отвечали зрители. В скором времени актер явился опять на сцену с объявлением от российского монарха, что его величество не желает предписывать законы публике и предоставляет решение этого случая ее снисхождению. «Траяна! Траяна!» – повторили тогда с большим жаром тысячи голосов и до тех пор не умолкали, пока не показался вновь актер на сцене с извещением, что российский император, уважая причины, побудившие к перемене пьесы, просит публику позволить играть «Весталок». «Да будет воля Александра исполнена! «Весталок»! «Весталок»!» – раздалось по всему залу – и в пользу «Траяна» не было уже ни одного голоса. Наступила глубокая тишина, как скоро пробежала по театру весть, что государи туда немедленно прибудут. Все зрители в немом ожидании обратились взорами к ложе, приготовленной для их величеств над амфитеатром.