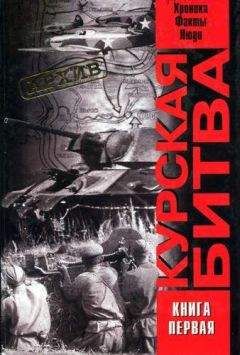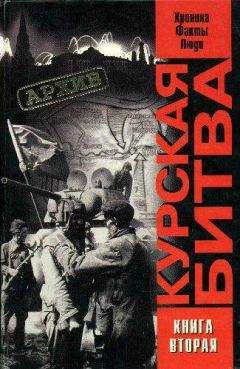Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
2/ IX, 1923
Триолеты
Посвящается Папе-Коле
У скал синеокого моря
Холодные волны плескали,
И ветер на диком просторе
У скал синеокого моря
Рыдал в необъятной печали,
И острые камни молчали
У скал синеокого моря.
Сверкали солёные слёзы
И слышались стоны глухие,
На каменной глыбе утёса
Сверкали солёные слёзы.
И слышались песни морские,
И бились о камни немые,
Сверкая, солёные слёзы.
Ласкали песчаные косы
Игриво-шумящие волны,
И гребни, как белые розы,
Ласкали песчаные косы,
Нелепым томленьем полны,
И тёмные, шумные волны
Ласкали песчаные косы.
У скал синеокого моря
Сверкали солёные слёзы
И волны в таинственном горе
У скал синеокого моря
Ласкали песчаные косы…
И гордо молчали утёсы
У скал синеокого моря.
2/ IX, 1923
«Мне осталось одно ожиданье…»
Мне осталось одно ожиданье —
Эта жгучая радость земли —
Всё смотреть, как сверкают в тумане
Убегающие корабли.
И тоскливо, порой предвечерней,
Не оглядываясь назад,
В даль глядеть, где узоры чертят
В море тонущие паруса.
Как на острове нелюдимом,
Жить мечтой о заветной дали,
Где, как ветер, проносятся мимо
Еле видимые корабли.
3/ IX, 1923
«Я не верю в то, что после смерти…»
Я не верю в то, что после смерти
Будет жизнь, и радость, и покой,
Что и там года придётся мерить
Счастьем или дряхлою тоской.
Снова жить, и жить совсем без цели,
Знать, что вечным будет тихий день,
Что на это пресное веселье
Не опустится ночная тень.
Знать, что больше ничего не будет,
Что корабль — на тихом берегу!..
Нет, я верю в то, что не осудит
Смерть на эту страшную тоску.
5/ IX, 1923
«Дай мне песен родины далёкой…»
Дай мне песен родины далёкой,
Неизвестной и несчастливой,
Чтобы не было так одиноко,
Так тоскливо и сиротливо.
Знаю что-то, похожее на жалость,
На неназванное желанье…
У меня от родины осталось
Только детское воспоминанье.
Страшно мне, что порвалась навеки
То, что нас соединяло прежде,
Что душа теперь уже калека
И не верит никакой надежде.
Дай мне песен родины далёкой,
Повесть жизни странной и чудной,
Чтобы не было так одиноко,
Так тоскливо и бесприютно.
10/ IX, 1923
Дома(«На дырявом дощатом столике…»)
На дырявом дощатом столике
Тетрадь небрежно лежит
Там трапеций и треугольников
Непонятные чертежи.
Флаг цветной на окне колышется,
Свет и день за окном…
На стене, давно облупившейся,
Календарь, прибитый гвоздём.
На всём вялый след бездействия…
Полка с книгами разных сортов —
Обязательно путешествия
И маленький том стихов.
Здесь ничто не покажется новостью,
Надоело уж всё самой,
И тетрадь с неоконченной повестью,
И разбросанное письмо.
И вся эта жизнь однозвучная,
Как горький упрёк судьбе,
И сама я такая скучная,
Опостылевшая себе.
11/ IX, 1923
Смерть Гумилева(«Ужасный, страшный плен души…»)
Ужасный, страшный плен души,
Предсмертный, слабый крик…
Что в этот миг он пережил,
Что понял в этот миг?
Немой вопрос. Удар свинца.
Налитый кровью взор…
Судьбы, лукавой без конца,
Бесправный приговор.
Ему казался тесен мир,
Он сам себя не знал,
Он шёл на пир, на шумный пир,
И всё не попадал.
Полмира — песнь его стихов,
Пол жизни — ширь и даль,
Какой тоски, каких оков
Не сбросил он печаль!
Унижен, загнан и забыт,
Влача животный страх,
Среди насмешек и обид
Погиб в родных снегах…
Какой загадкой мир предстал
Пред ним в последний час?
Последний стон, ружейный залп,
И нить, что долго он вязал,
Навек перервалась…
20/ IX, 1923
«Я попала в какой-то таинственный круг…»
Я попала в какой-то таинственный круг,
Из которого выхода нет.
Всё в сознанье моём перепуталось вдруг
И смешалось в бессмысленный бред.
Всё, что было когда-то, бесследно ушло,
И одна я в зловещем кругу.
Мне осталось лишь несколько стареньких слов,
А придумать других не могу.
Об одном лишь могу говорить и мечтать,
Даже мысли за круг не идут.
И сломать не могу роковую печать,
Перейти не могу за черту.
Всё о том же, о вечном томлюсь по ночам,
Под унылую песню сверчка.
И похожие дни монотонно звучат,
И в кругу меня водит тоска.
21/ IX, 1923
«Было солнце и ласки лета…»
Было солнце и ласки лета,
То смущены, а то дерзки,
Начертили на сердце приметы
Непонятные арабески.
Их поддразнивал лёгкий ветер,
Море красило в голубое,
Как лучи, они в сердце светят
Неизведанной, сладкой болью.
Всё окрасилось цветом моря,
Всё ласкал бесшумный сирокко, —
И остались знаки, как горе,
Слишком ярки, слишком глубоки.
И теперь предосенний ветер,
Монотонный, сухой и резкий,
Не сотрёт ни за что на свете
Непонятные арабески.
21/ IX, 1923