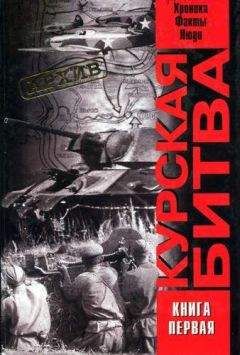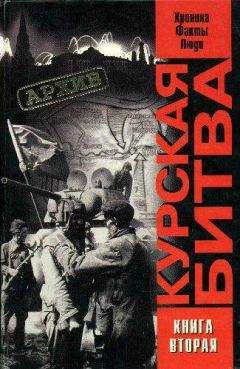Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное

Обзор книги Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
Ирина Кнорринг. ЗОЛОТЫЕ МИРЫ. Избранное
НАДЕЖДА ЧЕРНОВА. БЕСПОЩАДНАЯ ПОВЕСТЬ (Предисловие)
Передо мной шесть тетрадей, названных «Книгами». Тетради тесно заполнены стихами «поэта изгнания» — Ирины Кнорринг. Начаты записи в России, когда юной поэтессе было 8 лет, а большая часть написана в эмиграции. И хотя Ирина Кнорринг печаталась в эмигрантских изданиях, выпустила при жизни два поэтических сборника, общалась с известными литераторами, была, наконец, членом Союза русских писателей и поэтов во Франции, о себе, как о поэте, думала скромно: «Вот прошла я, подобная многим / (Так легко ведь идти за толпой)», «Когда я знаю, что не лучше /Таких же тысячи других…», «Мне смешно и не скучно жить / С длинным прозвищем — поэтесса!», «И прозвище надменное — поэт».
«Прозвище», а не звание! Может потому, что чувствовала она себя на чужбине человеком второго сорта («Я человек второго сорта»), оторванном от своего народа, от стихии родного языка, от Родины — вечной «беженкой», вынужденной ютиться у чужих порогов. И хотя сочинение стихов было её органической потребностью с раннего детства, хотя она то и дело признавалась: «И сердце гулко отбивает ямбы…», «А тиканье будильника порой / Совсем не ямб, а нервный амфибрахий…», «Я стала только рифмой мерить / Мои тоскующие дни», «Я люблю только крылья стихов», «Усиленным дактилем вяжут колёса / Какую-то страшную боль», «И жизнь меня несла поэмой плавной» и т. д., к стихам своим она относилась как к некой форме дневника, как к собеседнику в пронизанной холодом и одиночеством жизни. Друг-Дневник всегда выслушает, успокоит, поможет разобраться в запутанных хитросплетениях бытия, не предаст. Он всегда рядом. Всегда под рукой. Он — хранитель девичьих секретов, ночных фантазий и страхов — «окрылённых небылиц», бескорыстный, вечный спутник: «Здесь, на страницах заветной тетради / Горькие тайны лежат…» И ещё — стихотворный дневник стал её духовной родиной, где она могла говорить и думать по-русски.
Прозаический дневник тоже вёлся, и как бы дополнял стихи. Только в прозе — фактический материал её жизни, а в стихах — эмоциональный. Отец поэтессы, Н.Н.Кнорринг сказал о «шести тетрадях» её стихов, что это «памятник раскрытия человеческой души».
Дневник в прозе назвала она «Повесть из собственной жизни», а поэтическую часть дневниковой летописи величала по-разному: «Мой друг безмолвный — синяя тетрадь», просто — «Синяя тетрадь» (может быть, перекликаясь со строкой Анны Ахматовой: «Вот эта синяя тетрадь / С моими детскими стихами…»), «Заветная тетрадь», «Нити пёстрых стихов», «Сердце говорит», «На распутьях», «Мучительный час», «Силуэт души», «Беспощадные года», «Медные звенья стихов», «Томление по идеалу», «Ветер на песке», «Жизнь моя, забрызганная солнцем», «Я — только зритель», «Влюблённые стихи», «Рассказывая стихами…», «Золотые миры», «День за днём», «Дневник существования пустого», «Всё, что было», «Вечная даль», «В шелесте страниц», «Синий сон», «Когда душа цветёт», «Душа пополам», «Маятник сердца»…
Все эти строки из стихов могли бы стать названиями книг. Но самым, наверно, точным было бы это — «Беспощадная повесть». День за днём, «рассказывая стихами», писала Ирина Кнорринг повесть своей души («Душа — большая, путаная тайна, / Храм тихой нежности и чистоты»), не щадя себя, не заботясь о внешнем впечатлении, не подкрашивая свой облик:
Жизнь темна и душа пуста.
— Может быть, я одна из ста
Говорю об этом открыто.
Мечты раскрашенной не надо,
Я правду свято берегу.
Только жалкой, измятой, униженной,
Я найду золотые слова.
Именно это было для неё главным — пройдя сквозь житейские испытания, говорить правду «золотыми словами». И ещё — трепетное отношение к поэзии, к стихам.
Они отрадней, чем слова молитв.
Их повторять, ведь то же, что молиться.
Перечитывая любимые страницы А.Блока или А.Ахматовой, признавалась:
Я, как Евангелие, страницы их
Целую с трепетом благоговенья.
И вот ещё:
Мы будем медленно читать стихи,
Ведь каждый, как умеет, славит Бога.
И она пыталась читать «В небе бесконечном и бездонном, / Полном вдохновенья и огня», ибо «В этом мире нет противоречий, / В таинственной гармонии Творца». Чистым трепетом перед миром небесным, поиском «золотых слов», «Чтобы вечно струнами звучали / Жадные слова Богопознанья!», она была всецело поглощена, мало думая о земном, в том числе, и о литературной славе, которая всё же сопровождала её, и на какое-то время освещала печальное бытие, заслоняла сомнения в значимости собственного таланта, но слава эта заканчивалась часто разочарованием, «отвращеньем к литературе, и в особенности, к стихам…», которые не могут равняться жизни, не могут её пересилить, не могут и небу равняться — вдохновение смертных меркнет перед вдохновением небесного Творца:
Что прежде называла вдохновеньем,
Что прежде было счастьем и мечтой,
А после — тоже стало пустотой…
Может, ещё и поэтому отводила она себе скромную роль в литературе («Верно, мне не сделаться поэтом…»), что понимала: никогда не станет великой, поскольку никогда не разгадает тайну небесной гармонии. И как бы не были чеканны её собственные строки (этим она иногда гордилась), стройность Божественной музыки ей не передать. Но она слышала её, музыка эта её волновала (у Ирины был безупречный музыкальный слух, она играла на пианино, и отец её был музыкантом-любителем).
Всё, что отвлекало от небесной гармонии, Ирину раздражало, особенно, шумные, хмельные вечера среди собратьев по перу, где было немало псевдо поэтов, или просто мало одарённых людей, но с большими претензиями. Для Ирины же слово Поэт всегда звучало с большой буквы. Звание Поэта было священным.
Я никому не читаю стихов,
Я не срываю похвал.
Я разлюбила угар вечеров,
Душный, наполненный зал.
Но никому — ни за что — никогда —
Я не поведаю — нет,
Чем для меня в те живые года
Было названье — Поэт.
Ирина старалась держаться в тени, в стороне от всегда праздничного, праздного Монпарнаса, где в ночных кафе любили собираться молодые русские поэты Парижа: спорили, читали стихи, делили лавры первенства, доказывали маститым «старикам», таким как Бунин, Мережковский, или более близким к себе Ходасевичу и Адамовичу, что имеют право на звание поэтов, что именно они глашатаи нового времени. Ирину утомляла нездоровая атмосфера этих вечеров, где ждут «злого, литературного анекдота», как возможности поглумиться над кем-то — просто так, от скуки, от того, что потерпели катастрофу, выброшены на чужой берег, где никому не нужны. Она видела «На привычно-равнодушных лицах /Острой злобы плохо скрытый яд» — неизбежный яд соперничества, зависти, вранья, дешёвого театра, что присуще для любой богемы. Ирина сторонилась этого яда: «Как уйти от путей лукавых? Как увидеть нетленный свет?». Она берегла «храм чистой нежности и чистоты» — свою душу, чутко слушая, «как растёт могучий звук», как в сердце «звучит струна». В такие минуты она чувствовала: «Душа сильна: в ней блещет вечный свет». Она искала «то, что бессмертнее и выше счастья», и только тогда «Слетают с языка / Неповторимые слова», только тогда «человеческой станет душа». Слова слетали с языка, как высверк молнии: