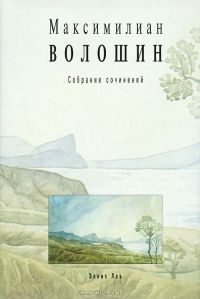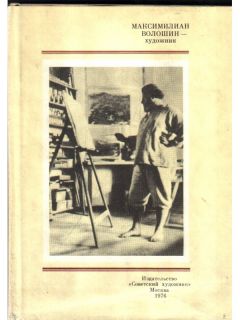Максимилиан Волошин - Путник по вселенным
Национальный праздник 14 июля в Париже
Когда Бастилия была взята и разрушена, то на ее месте была устроена ровная площадка, поставлен столб и к столбу прибита надпись:
«Ici on danse!»[29]
С тех пор Национальный праздник разделяется на две части: военную – большой смотр, который происходит утром, и танцевальную, которая происходит вечером, всю ночь и не прекращается еще несколько дней.
Шесть часов утра. Парижане едут в Лоншан{1}
От Pont Royal[30] отходят пароходы.
Внизу, около старых сводов моста, постройки Короля Солнце, серых и несимметричных, в тени [огромных][31] старых тополей, заслоняющих «Pavillon de Flore»{2} со стороны Сены, публика жмется в железных загородках. Черный змей свернулся несколько раз и теснится к горлу пристани. Сзади к хвосту бегом бегут прибывающие, быстро шелестя по крутым каменным сходням, спускающимся к Сене.
Белые пароходы [быстро] уходят один за другим. На Сене еще утренний холодок, но день будет жарким [очень жарким].
Город бежит по берегам – светлый, серебристый, четкий. Пароход мерно разбивает идущие навстречу волны. Берега опрокидываются в воде и расщепляются на тонкие разноцветные иглы и замкнутые глазки. Каждый глазок обведен голубой полоской неба, а внутри его инкрустированы отражения прибрежных тополей.
– Mais c'est bean cela – le matin?[32]
– Seine peut se payer les pareilles petites attracti – ons![33]
– Она делает конкуренцию Луи Фуллер!{3}
– А жаркий будет день сегодня…
По небу веером развернулись перистые облака. [Точно] жемчужные короны на голубом фоне.
Высоты Медона и Сен-Клу обременены садами и купами деревьев, которые стекают с гор вплоть до реки и тяжело склоняются над водой.
Пароход поворачивает по петлям реки к Сюреню и, не дойдя, причаливает к пристани Лоншан в виду высот Mont Valerian.
У решеток Лоншанских трибун опять публика «делает хвосты».
Внутри загородки, у подножия трибун, толпа с боя берет деревянные стулья. Вдоль барьера [уже] выросла непроницаемая стена черных спин. Все стоят на своих стульях.
[Ставят стулья на стулья. Балансируют на спинках стульев.]
Из-за сплошного желтого панциря соломенных шляп виден кусочек зеленого поля и зубчатая стена леса. Солнце бьет в глаза. За солнцем лес кажется лиловым, мутным и [очень] высоким. Далеко, по тому клочку зеленого поля, который виден в пролет между красной щекой, ухом и белым зонтиком, движутся [какие-то] живые геометрические массы и поминутно вспыхивают искорки. Видно, что сверху эти массы сплошные, а снизу шевелятся тонкие, гибкие стебли – ноги лошадей.
– Зонтики! зонтики! Эй, уберите зонтики!..
Зонтики клубятся над толпой как водяные пузыри – белые, красные, голубые.
– Зонтики!
Но зонтики не двигаются.
На трибунах движение. Перевешиваются через барьеры.
Долетает далекий плеск аплодисментов.
– Это m<onsie>r Лубэ{4} и бей…
Толстая дама наклоняется с высоты двойного нагромождения стульев: – Филипп! Филипп!
– Я знаю m<onsie>r Лубэ уже двадцать лет. Очень мне интересно!..
Он вытирает мокрый лоб и кладет газету на голову.
Почти у всех мужчин под шляпой надеты белые носовые платки.
– Это сен-сирцы{5} идут.
– Генерал Андре{6}? Это вон тот на белой лошади…
Сверкают каски… Правильным движением ножниц смыкаются и размыкаются ряды ног.
За лесом виден кончик Эйфелевой башни – совсем голубой.
В голубом зное тает далекое кучевое облако.
На крупный серый гравий падают синие переплеты теней от стульев, зонтиков и шляп.
Совсем близко, сейчас за головами, черной густой массой движутся тонкие штрихи штыков, но солдат не видно.
Доносится дальний треск барабанов.
Когда оборачиваешься назад, то видишь только напряженные линии приподнятых подбородков, полураскрытые рты и белые полоски зубов.
Сейчас за оградой трибун полная тишина.
Ряды красных и серых автомобилей и колясок.
Еще несколько шагов – зеленые берега зацветшего озера. Звезды белых кувшинок. Пахнет сыростью и стоячей водой.
Глубокие зеленые тени. Несколько спящих фигур по зеленым бархатистым берегам.
Дальше по аллеям, окружающим Лоншанское поле, около старой мельницы, обвитой плющем, по пыльным краям дороги, на вытоптанной траве – тысячи и тысячи людей, не попавших в ограду трибун.
Везде в лесу балаганы – стойки с сидром, с пивом, с мороженым, холодным бульоном.
Везде амбулаторные палатки с приготовленными носилками для пострадавших от солнечного удара.
Стоят плечом к плечу, тесной горячей массой. Чтобы пробраться на другую сторону леса, надо погрузиться в эту жидкую и вязкую толпу. Чувствуешь прикосновение ситца, холодноватого полотна, шероховатого сукна, иногда горячего и влажного тела.
Из-за голов временами видно далекое поле, клубы пыли, скачущие эскадроны и далекие ряды трибун, как разноцветным гравием посыпанные народом.
Чем дальше по аллеям, тем толпа все реже, а около [больших] озер почти пусто.
Париж теперь тоже пуст и раскален. Белый зной.
Place de la Concorde[34] погружена в африканскую пустынность. Она вся в желтоватых и сер[оват]ых тонах – выцветших от солнца. Обелиск светлеет в синем небе пустынным, изъеденным зубцом.
Асфальтовые тротуары становятся мягкими и ароматичными.
Статуя города Страсбурга{7} убрана новыми верками.
У театров длинные «хвосты» в ожидании даровых представлений.
Так до вечера.
Перед вечером.
Поперек улицы от домов падают вечерние прозрачные тени.
Только верхние части домов освещены и золотятся. На перекрестках стоят наскоро сколоченные павильоны для музыкантов.
Они обвиты пестрыми лентами и зелеными ветвями. Но листья на ветвях уже свернулись и почернели.
Две женщины, держа друг друга за талию, без музыки кружатся по пыльной мостовой.
Изо всех лавочек вынесены столы на улицу и обедают под открытым небом. Зеленые бутылки, грязные тарелки, оловянные ложки, на которых застыло желтое сало. Дети. Собаки.
Я погружаюсь в узкие переулки старого Парижа.
Перекресток Rue de Galande. Из-за черных стрельчатых камней St. Severin{8} вырываются струи и каскады свежей земли.
В устьях темных ущелий, впадающих на перекресток, – ряды деревянных столов. Над перекрестком устроен воздушный балдахин из стеклянных плошек. Огни еще не зажжены, и прозрачные стаканчики висят тонкими нитями, точно гигантская седая люстра.
На Rue de Galande старые дома вытягивают свои животы и смотрят десятками маленьких окон. В соседнем переулке сквозь деревянную калитку виден в глубине двора фасад, вросший в землю, самой старой церкви Парижа – St. Julien la Pauvre{9}. [Она построена в XIII веке. Она была домовой церковью старого Hotel-Dieu, когда тот одним крылом перекидывался на левую сторону Сены. Теперь в ней совершается православное богослужение по коптскому обряду. В ней есть могила барона Монтиона{10} – знаменитого основателя премии за добродетель. В ней несколько лет тому назад служил обыкновенно известный московский священник Толстой, перешедший в католичество.]