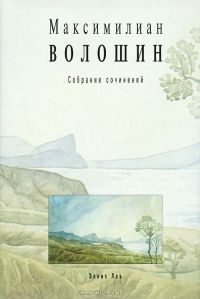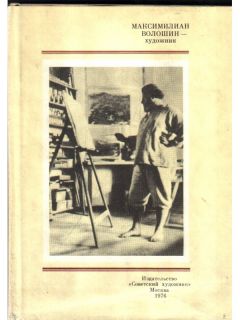Максимилиан Волошин - Путник по вселенным
У Анни Безант не то лицо, которым обычно наделяют пророков в своем воображении. Это лицо некрасивое, неправильное, скорее полное, чем худое, очень законченное в своих линиях, очень бледное.
Оно поражает четкостью и реалистичностью своих деталей, точно оно написано кем-то из старых голландцев. Только глаза, страшно яркие, большие, подвижные и темные, на этом толстом морщинистом лице, почти таком же белом, как ее седые короткие волосы, горят пламенем воли, как языки Святого Духа.
Она стояла на эстраде вся в белом, с белыми волосами, в горячей человеческой полумгле этой тусклой залы, стены которой закрыты поучительно знакомыми, неумолимо определенными очертаниями земных материков, начертанных в исполинских размерах.
Ее французская речь, отчеканенная и ясная, с легким английским акцентом, падала сверху. Голос слабый и матовый, точно подернутый бархатным инеем, отчетливый, собранный в комок ровным усилием воли.
«Мы спрашиваем себя – почему мы несчастны? Но отчего же, когда мы счастливы, нам никогда не приходит в голову спросить себя – откуда истекает наше счастье?..
Смерть это переход…
Этот переход можно совершить и свободно, не проходя сквозь врата смерти… Я это знаю потому, что я это испытала…
…Кто подготовлен к этому, тот за гранью найдет естественное продолжение своих интересов. Для тех, кто привязан к земным формам и вещам, – этот переход связан с долгими периодами потерянности и скорби…
Чуда нет в мире. Нет случая! – все связано одно с другим, все имеет смысл…
Не удивляйтесь, если человек высокого и прекрасного духа совершает поступки низкие, недостойные его: дух часто далеко опережает наше материальное существо… Никогда не судите по поступкам… Факты ничего не говорят о человеке… Судить можно только по намерениям… Поступки – это предохранительные клапаны… Действием мы часто только освобождаемся от чужих нам желаний, живущих в нас…
Великая роль принадлежит славянской расе… В ней сосредоточены все силы и токи… Уже рождаются дети, которым суждено составить то поколение…»
В тот же вечер было официальное закрытие «Русской школы социальных наук». В толпе русских студентов, живущих в Париже, больше чем где-либо удивителен этот слепой мозг, подернутый непрозрачной плевой русских будней, который русская молодежь приносит с собой за границу. Долгие годы они могут жить в самом яром огне плавильного горна европейской мысли и не чувствовать его кипения и видеть только все те же серые силуэты призраков и наваждений петербургского периода, с детства отпечатавшиеся на ретине их глаза, всюду приносит с собой тусклую скуку либеральных интеллигентов, сосланных в глухую русскую провинцию.
Профессор Трачевский{3}, с седой головой и лицом византийского страстотерпца, читал заключительную лекцию о Великой революции.
«…Храбрый босоножка прошел по всей Европе в своем капотике с трехцветкой в руках. Но под синей шинелью скрывалась драгоценность – его огненное сердце. Когда он приходил в новый город, он сейчас же сажал посреди площади маленькое деревцо и вешал на него фригийский колпак. Это называлось «деревом свободы»…»
Эти страницы французской революции, приноровленные для понимания десятилетних девиц, где «санкюлоты» переводились «босоножками», произносились в нескольких шагах от того места, где помещался когда-то клуб якобинцев, среди камней, пропитанных жертвенной кровью народов, на которых еще горят прикосновения горячих пальцев, хватавшихся за них.
В заключение он сказал несколько слов о «чуде» гражданского обновления России. Прислушиваясь дальше к речам, произносившимся с этой кафедры позитивной мысли, меня удивило частое повторение слова «чуда». Оно приходило на язык говорившим случайно, его употребляли между прочим, не придавая ему слишком большого значения. Но тем большее значение приобретало оно, сопоставленное со словом Анни Безант, сознательно и гордо отрицавшей возможность чуда в мироздании.
«Нет чуда! нет случайностей! Все имеет тайную связь, и ее надо найти…»
Европейская мысль никогда не могла отказаться от сладостной веры в чудо и сквозь мертвые хрустали позитивизма остановилась перед тем же чудом в его мещанской разновидности случая.
Может быть, вся разница между позитивизмом и идеализмом… символизмом… словом, тем миросозерцанием, которое теперь любой назовет новым, но которое на самом деле является самым старым на земле, – и заключается в том, что позитивизм в глубине души признает чудо, оставляя для него широкое место в своем миросозерцании, а символизм, допуская для краткости это имя, – отрицает его…
Литературные банкеты «La Plume»[27]
Банкеты журнала «La Plume»{1} в настоящее время представляют из себя историческую традицию. За ними почти двадцатилетняя давность.
Они тесно связаны с литературной историей двух последних десятилетий французской литературы.
Леон Дешан{2}, основатель «La Plume», семнадцать лет тому назад в пяти энергичных параграфах формулировал свою боевую программу:
1) Создать для общей пользы художников, граверов, скульпторов, литераторов орудие для борьбы, инструменты для пропаганды между артистами – до остальных нам нет дела. (Журнал «La Plume».)
2) Воодушевить борцов, дав им возможность лично и непосредственно обращаться к избранной аудитории. (Субботы «La Plume».)
3) Создать антологию избранных произведений новых писателей, иллюстрированную избранными артистами, еще неизвестными публике: Ропсом{3}, Редоном, Люсом{4}, Десбутэном{5}.
4) Уничтожить несправедливость и пристрастность в литературных и артистических спорах; произвести полный переворот в отношениях между признанными мастерами и молодыми – только приходящими: по отношению к старшим заменить презрительную насмешку почтенным уважением. (Банкеты «La Plume».)
5) Пробудить у нас культмастеров, разбивая враждебное безразличие и партийный дух. (Подписка в пользу Верлена{6}, памятник Бодлера{7}.)
На этой программе сохранилось горячее дыхание первых борцов за символизм… «La Plume» должен был стать не журналом, а эстетическим парламентом. Дешан обладал редкою способностью собирать вокруг себя людей. Все эти бесшабашные и талантливые юноши, про которых в Париже ходили чудовищные легенды, которых «Фигаро» называл «мертвецами из пивных, Гелиогабалами{8} публичных домов», ютившиеся в своем излюбленном кафе «Francois I», куда приходил потихоньку Макс Нордау{9} собирать материалы для своего «Вырождения» и где для него устраивались мальчишеские бляги и его дурачили невероятными рассказами о своих извращениях и чудовищных вкусах, – все они переселились в погребок на площади St.-Michel на субботние собрания «La Plume».