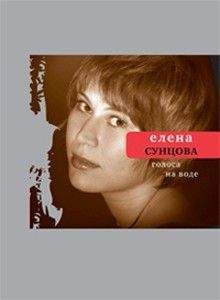Ольга Мочалова - Голоса Серебряного века. Поэт о поэтах
Звучали ноты самолюбивого лихачества:
«Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны»[299].
Звучали даже ноты пренебреженья:
«Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее» [300].
Но достойно внимания — основное, вершинное:
«Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком.
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом»[301].
Любовь пронзает душу «Синими светами рая»[302], он говорит о ней: «Ты мне осталась одна»[303].
Он говорит:
«Мир — лишь луч от лика друга,
Все иное — тень его!»[304]
В каждой любви — поиски потерянного себя и связей с высшими сферами.
«С тобою, лишь с тобой одной,
Рыжеволосой, белоснежной,
Я был на миг самим собой»[305].
Он — неустрашимый — чувствовал себя беспомощным: «Перед страшной женской красотой»[306].
Он только раз произнес слово «страшная».
Поиски себя, трудность разобраться в себе — одна из насущных тем поэзии Гумилева. Сколько образов в нем сидело, и не все были желательными.
«Когда же
Я буду снова я —
Простой индиец, задремавший
В священный вечер у ручья»[307].
О тоскующем одиночестве Гумилева, несмотря на многочисленных поклонников, говорил Алексей Толстой, говорили все, говорил он сам:
«О моей великой тоске, в моей великой пустыне»[308].
«И никогда не звал мужчину братом»[309].
Я хочу только вспомнить, что у него был друг Владимир Эльснер [310], поэт одной книги стихов, канувшей в бездну забытья [311]. Стихи умные, хорошо написанные, приятного тембра. Помню одно: поэт говорит о какой-то жизненной ситуации:
«Как в старой немецкой гравюре,
Где страсть, смерть и вино».
Для полноты образа Н. С. необходимо помянуть его пристрастие к сильным хищникам:
«Парнас фауной австралийской
Брэм-Гумилев ты населил.
Что вижу? Грязный крокодил
Мутит источник касталийский,
И на пифийскую дыру
Вещать влезает кенгуру»[312].
Думается, пристрастие выросло из переплетенных корней. Любовь сильного к сильному, завоевательный интерес с ним сопоставиться. Любованье красотой хищников: «Меха пантер — мне нравились их пятна»[313]. Сочувствие тоске их пленения — и человеком, и условиями дикого существованья. И — наиболее сложное — провиденье переходных форм звериного бытия. Так, в последнем сборнике рисуется тигр — пьяный гусар — воинствующий ангел. Так:
«Колдовством и ворожбою
Леопард, убитый мною,
Занят в тишине ночей»[314].
Только раз упоминается о друге-собаке [315].
Очень дорог мне в нем тайный опыт виденья ночного солнца. Опыт неизреченный, он не объясняет его, скупо сообщает:
«Наяву видевший солнце ночное»[316].
Но без этого внутреннего события нельзя себе представить поэта.
Думается, прекрасен был в нем жест великодушной снисходительности. Не с позиций высокомерия, надменности, разумеется. Но как бы горькие сожаления об искажении, об ущербе сущего, высокая печаль о неизбежности падения.
Ему несвойственно было произносить резкие осуждения. Так, о поэте Ратгаузе, идеале бездарности, он писал: «Рыцарь нивских приложений». В «Письмах о русской поэзии» щедро, добро, гибко откликается он на разнообразные достоинства разнохарактерных поэтов [317]. Как зорко видит малейшую крупинку золота и радуется ей.
А он ли не страдал от жестоких нелепостей жизни, мрачной тупости людских мнений. Он — капризно-нервный, аристократически-изысканный:
«Какая странная нега
В ранних сумерках утра»[318], —
писал он. Вот, представляется мне, его скрытый душевный фон. Героичным было само его внешнее спокойствие, самообладание. Ведь он неоднократно кончал с собой. Он постоянно играл со смертью.
Стихотворение «Душа и тело» в его предсмертном сборнике [319] — духовный храм. Он, сказавший:
«И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог»[320],
— встал во весь рост и рост исполинский. Эта, в сущности, поэма вызывает трепетный холодок при чтенье.
Отмечу начало 2-й части:
«И тело я люблю».
Т. е. даже и тело, такое стеснительное, требовательное, досадное нередко. То, которое водило его по «задворкам мира», где мы «средь теней», где «так пыльна каждая дорога, каждый куст так хочет быть сухим». Только раз вырвалось в поэзии Гумилева выражение огненной плеткой:
«Что в проклятом этом захолустье»[321].
Я не нашла ему имени. «Николай Степанович» — это еще звучало сносно, но сокращенные имена — никуда. Фамилия «Гумилев» — стальное забрало. Во всем бесконечном разнообразии многонациональных имен — ничего подходящего. И вот в III, заключительной части, «Душа и тело», слова поразительные по значенью:
«Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье,
А Вы — Вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!»[322]
Вы — душа и тело.
Кто не понял, что Гумилев безмерно выше самого себя, не понял в нем ничего. Автор изящных стихов, любитель путешествовать.
И не лучшим ли определеньем его сущности останется название его предсмертного сборника «Огненный столп»[323].
Его стихи ко мне1. Ольга [324].
2. Канцона вторая. «Огненный столп»[325].
3. «Мои читатели» — по впечатленьям наших московских хождений. «Огненный столп»[326].
4. «Я сам над собой насмеялся…» Посмертный сборник [327].