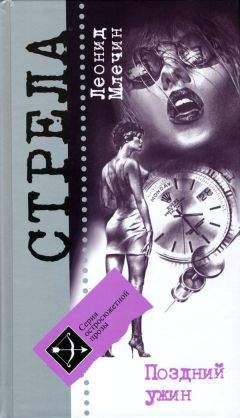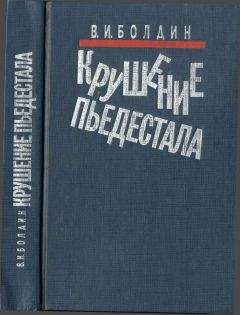Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
Но и на этот раз всё обошлось, «счастливый жребий дом мой не оставил»… Друзья поэта через Москву образумили ретивых начальников, и Волошиных снова оставили в покое. Возникла очередная пауза мнимого затишья. Однако эти треволнения не прошли даром, именно тогда состояние здоровья поэта резко ухудшилось. В январе 1931 года художник переживает настоящую депрессию. Он вновь ощущает «медленный отлив друзей», о многих из них не имеет сведений; осложнились за последнее время отношения между ним и супругами Константином Кандауровым и Юлией Оболенской. Между тем Константин Васильевич не так давно перенёс тяжёлую операцию, он сам нуждается в сочувствии. Волошин пишет ему и ожидает ответа. Лёжа «с дырой в животе, в которую можно всунуть кулак», Кандауров 2 августа 1930 года диктует Юлии письмо Волошину: «Дорогой друг, гранит нашей долголетней дружбы хотя и покрылся последние годы каким-то налётом, но твоё письмо очистило его, и он опять засверкал своей поверхностью. Дорогой мой, твоё письмо во время тяжёлых переживаний произвело на меня огромное, глубокое впечатление, до сих пор иначе и быть не могло!..
Дорогой мой Макс, большую благодарность шлю тебе за рисунок, который я собираюсь подарить моему доктору».
Зная об интересе Волошина к загадкам гиперфизического мира, Константин Васильевич описывает свои ощущения во время операции и болезни, когда лица близких людей виделись ему «другими»: «…курьёзное ощущение раздвоения, растроения и даже многоличие какой-то своей личности. Доходило до того, что я искал свой рот, который мне казался моим, рот, который стоял поперёк лица… Я не знал и не мог понять, которая нога моя, которая неизвестно чья… Много было фантастических положений… Можно ли было предположить, что тебе, художнику, поэту, работнику искусств, придётся от такого же работника получать несколько странное, психологически ничем не связанное с искусством письмо…» Письмо это передала Максу Женя Ребикова. Возможно, оно явилось продолжением каких-то предыдущих разговоров двух художников… Кто знает, в каких незримых пространствах блуждали они…
Большую психологическую помощь поэту оказывает в это время Казик, Казимир Мечиславович Добраницкий, партийный работник, журналист. Он не только утешает поэта в письмах, но и наведывается в Коктебель, чтобы урезонить местные власти, которые спят и видят, как бы лишить Волошиных хлеба и керосина. Его вмешательство на какое-то время создаёт Дому Поэта «иммунитет», как пошутил однажды художник. И вскоре уполномоченный Наркомснаба по Феодосийскому району направляет в посёлок директиву: коктебельской лавке снабжать «поэта-художника Волошина» хлебом «по нормам 3-ей категории» (300 граммов на душу в сутки). Теперь надо наконец решить вопрос о пенсии Наркомпроса, который постоянно ставится и снимается ответственными товарищами с повестки дня. Дело затягивается, а пока что, надеется Добраницкий, Союз писателей «от себя» может высылать поэту определённую сумму. Тот же Казимир Мечиславович пытается пристроить в «Новый мир» воспоминания Макса о Черубине де Габриак, продать в Москве какие-то его акварели. Парадоксально, но факт: в последний год жизни Волошину начинает казаться, что он обрёл настоящего «доброго гения» в лице этого молодого коммуниста. Скоро приходит отрезвление: Казик, стремительно идущий в гору как партийный функционер, охладевает к беспартийным Волошиным.
27 марта решается важный вопрос: Союз писателей даёт согласие на то, чтобы устроить летом у Волошиных платный дом отдыха. Макс получает перевод на 100 рублей, та же сумма приходит и в апреле, а в мае художник подписывает Союзу дарственную на «каменный флигель» Дома. К самому же Максу народ в этом году не торопится; приятной неожиданностью стал для Волошина приезд в июне Евгения Яковлевича Архиппова с женой. С Евгением Яковлевичем, педагогом и библиографом, имеющим склонность к поэзии, Максимилиан Александрович познакомился в Новороссийске, когда возвращался после своего кисловодского «лечения». Между ними сразу завязались тёплые отношения. Евгений Архиппов оставил потомкам «Коктебельский дневник», в котором описал, по сути дела, последнее лето в Доме Поэта, отмеченное присутствием его хозяина.
Разумеется, сразу же — экскурсия по дому, прогулки по окрестностям; все четверо пошли на место недавних раскопок. Известно, что с помощью Волошина подводные археологи обнаружили остатки мола древнего города, Каллиеры. Волошин-художник написал небольшую акварель предполагаемого города, растворившегося в веках. Волошин-поэт посвятил Каллиере один из самых красивых поздних сонетов:
По картам здесь и город был, и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стёрт,
Как мел с доски, разливом диких орд.
И мысль, читая смытое веками.
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блеск в зрачках раскосых морд.
Зубец, над городищем вознесённый,
Народ зовёт «Иссыпанной Короной»,
Как знак того, что сроки истекли,
Что судьб твоих до дна испита мера,
Отроковица эллинской земли
В венецианских бусах — Каллиера.
(«Каллиера», 1926)
Возможно, в этом сонете заключён и личностный мотив. Как знать, какие чувства испытывал поэт, издавна читавший «смытое веками» в морщинах своей Киммерии, «земли глухой и древней», слагая стихи о том, «что сроки истекли, / Что судьб твоих до дна испита мера…».
Ближайший холм по береговой линии от мастерской к Карадагу — «это и есть сторожевой крепостной холм, охраняющий Каллиеру, — рассказывает Е. Я. Архиппов. — …Остатки Каллиеры лежат на плоскогорье… А в соседней бухточке, за старым кордоном, по дороге к мысу Мальчин, находятся и остатки античного порта с фундаментами волнореза под водой. На французских картах начала XIX века порт обозначен как „Порт тавро-скифов“. Гибель Каллиеры надо отнести к тому же времени, когда погибла античная Феодосия, в IV веке опустошённая полчищами гуннов».
Ходили ещё в Каньоны и на Топрак-Кая. Далеко не молодой, переживший «удар», Волошин тем не менее вырывался от своих спутников вперед. Его шаг был «крупный, точный и уверенный». Он ловко пользовался посохом, но«…так переставляет посох рука епископа, одетого в парчовые одежды, во время его краткого пути от престола, через царские врата, на амвон для благословения молящихся. Поэтому редкие кочевники домов отдыха и санаториев, встречавшиеся нам во время прогулок, так столбенели; иные сторонились с дороги, смотря вслед и долго и трудно осмысливая воочию увиденную прошедшую перед ними мифическую великолепную фигуру». Время от времени поэт склонялся над какой-нибудь травинкой или гнёздами камней. «Тот наклон головы, та внимательность… говорили о большем, чем перебирание и рассматривание окраски… Эти кучечки камней казались подорожными чётками. Язык их ему был понятен».