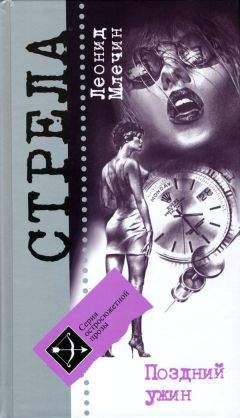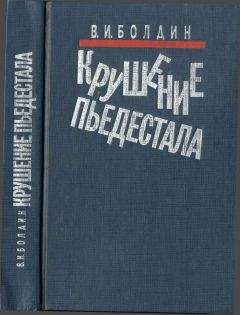Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
К счастью, через неделю здоровье Волошина частично восстановилось, он начинает подходить к рабочему столу, а в январе пытается рисовать. Поэт заканчивает переводы из Флобера, и Госиздат выплачивает ему гонорар. По весне он уже гуляет, старается регулярно уделять толику времени работе, но быстро устаёт. Радуют вести, касающиеся его акварелей. Ещё в декабре художник узнал об успехе одесской выставки и даже получил деньги от продажи двадцати работ; теперь же становится известно, что несколько его произведений отправлено в Лондон, кое-что продаётся и в своей стране. В общем-то жизнь была бы вполне сносной, если бы не постоянные удары со стороны местных властей: то Курорттрест покушается на часть его дома, то какие-то чины забирают хлебные карточки: «Будем кормить только рабочих!» Волошин понимает: эти атаки будут продолжаться. На исходе жизни ему постоянно приходится защищаться, писать в различные инстанции, объяснять, просить, изворачиваться. Он пытается найти надёжную защиту, отойти под эгиду Пушкинского Дома или Литфонда; затевается соответствующая переписка с руководством этих организаций… Грустно, прискорбно, если не сказать, трагично: на это уходят последние запасы жизненной энергии…
А на дворе уже стояло лето. Только в природе всё было ритмично и прекрасно; только она не таила в себе подвохов (если не считать землетрясения). Впрочем, и приезды гостей были ритмичны и неизбежны, как явления природы. Среди приехавших в Коктебель — Евгения Ребикова, сблизившаяся с поэтессой Марией Петровых, в которой видит огромный талант.
Прибывали и маститые. Из соседнего Судака пожаловали отдыхающий там вальяжный советский граф Алексей Толстой, с которым Макс обсуждал его будущий роман о Петре Первом. При графе был и Вячеслав Шишков. Приезжали юные, едва оперившиеся литераторы. Поэт и переводчик Семён Липкин, которого захватил с собой к Волошину Г. Шенгели, оставил воспоминания. Подъезжая к Коктебелю, Шенгели предупредил его: «Купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины — справа, женщины — левее». Вознамерившись освежиться, Липкин двинулся к морю, как было велено, вправо. «У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошёл влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, щурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: „Холод смертный. Бодрит, мерзавец“. Действительно, моё Чёрное море здесь оказалось холодным».
Липкина определили в «гумилёвскую» мансарду, и жизнь его влилась в коктебельский ритм: «Завтрак. Свежее, цвета топлёного молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели — Алексей Толстой, профессор Десницкий из Ленинграда, литературовед, тоже литературовед, тоже ленинградец, Мануйлов, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, — высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив — его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Фёдорову». Разговор шёл о том о сём, обсуждались московские новости. Негодовали по поводу и вышучивали «рапповских зловещих невежд». Волошин, казалось, относился ко всему добродушнее, чем его окружение. Но вскоре стало ясно: он немного играет, успокаивая себя, умиротворяя других.
Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ «День Петра». Слушали, пили отузское вино, восхищались рассказом. Никто не осмелился на критические замечания. Только Волошин сказал: «Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы ты был образован». Липкин подумал: «Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?»
Понемногу начинающий поэт стал осваиваться в «обормотской» жизни, понял, на чём основывалась здешняя экономика: «Против дома, к тополю, рядом с рукомойником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги — кто сколько сможет. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму». Ну а Толстой, уезжая, мог оставить, с «графского» плеча, весьма солидную сумму.
Разумеется, «студент» Липкин держал экзамен по курсу «Поэзия» у «профессора» Волошина. «Профессор» слушал его стихи внимательно, но вместо оценки прочёл «соискателю» небольшую лекцию: «В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создаётся Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и ещё что-то, а это „что-то“ называют по-разному: натуры примитивные, но чистые — волхвованием, более тонкие — тайной или музыкой. Года два тому назад (то ли лектор, то ли слушатель ошибается в сроках. — С. Я.) нас навестил Андрей Белый, изрёк: „Мной установлен закон построения пушкинского четырёхстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу“. — „Боренька, — отвечаю я, — вот и напиши, как Пушкин“».
Похоже, что к осени 1930 года здоровье Волошина более-менее стабилизировалось. Он вновь совершал длительные прогулки, на одну из которых взял с собой молодого поэта. Липкин запомнил: «Дорога была нелёгкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колючки по бокам тропы, то падающей, то поднимающейся. Волошин, несмотря на свою тучность, ступал легко. При этом он безустанно говорил, главным образом, о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест». Он связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье, рассказывал историю возникновения караимской ереси[16], говорил об этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность и трудолюбие. «Древние виноградари и тайноведцы подземных вод» — так он их определял; запало в память мемуариста и самоопределение Волошина «христианский коммунист».
Однако для власть имущих оно слишком мудрёно — куда проще и весомее клеймо «кулак». Искоренение кулачества тогда уже вошло в разряд первостепенных задач партии и правительства. Ещё с осени 1929 года по посёлку поползли страшные слухи, вспоминает Ф. Ф. Синицына, внучка священника, купившего ещё летом 1906 года десятину земли рядом с домом Волошина. Говорили о том, что Максимилиан Александрович попал в список «кулаков»: «Они должны были составлять не менее 5 процентов от всех хозяйств. В посёлке наёмным трудом никто не пользовался, батраков вообще не было… В список попали все трудолюбивые семьи, имевшие лошадей либо другой скот, все владельцы сеялок, веялок и прочего инвентаря. Не забыли лавочника Сапрыкина и бывшего владельца кафе „Бубны“ грека Синопли… Лишение избирательных прав попа — моего дедушки, „кулака“ Волошина и многих других никого не взволновало. Гораздо больше пугало постановление от 30 января 1930 года Политбюро ВКП(б) о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». «Подлежу уничтожению как класс», — грустно шутил поэт. Вскоре Волошиным вручили приказ о конфискации домов с датой принудительного выселения. «Макс сказал, что записал в своём дневнике один из вариантов выхода из тупика — самоубийство… Маруся со свойственной ей решительностью назначила дату самоубийства на день их выселения из дома». Она понимала, что конфискация домов для Макса «не просто потеря жилья и крыши над головой. Его дом для него родное детище».