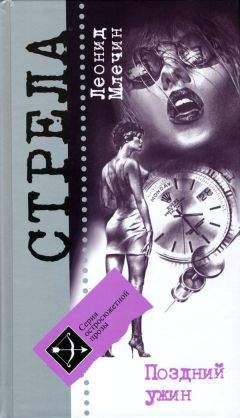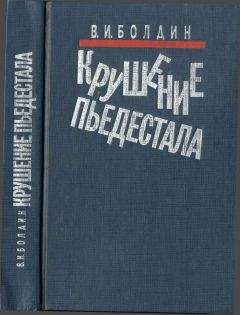Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
— Как вам нравится моя комната?
— Комната нравится, — отвечает Всеволод, — но ведь мимо ходят целый день!
(Надо сказать, что тропинка к двум деревянным культурно-„нужным“ домикам, называемым всей дачей „гробами“, вела мимо замятинского флигеля.)
Замятин в ответ острит:
— Изучаю утробную жизнь наших обитателей.
…Дачу он назвал „волхоз“ — волшебное вольное волошинское хозяйство».
Журналист Басалаев не случайно выделяет в своих записях фигуру Замятина. Евгений Иванович в конце августа действительно становится объектом всеобщего внимания: стало известно о выходе за границей его романа-антиутопии «Мы», написанного ещё в 1920 году. Тогда же на писателя обрушилась пресса, вновь загуляло набившее оскомину словосочетание «контрреволюционная вылазка», однако в коктебельском «обормотнике» Замятин воспринимался как герой, бросивший вызов системе. В воспоминаниях об этом прямо не говорится, но видится между строк: «Потом компанией провожаем его до автобусной станции. В ожидании автобуса рассаживаемся на перила маленькой станционной террасы… Молодые женщины интересуются Евгением Ивановичем и настойчиво допрашивают, какая у него жена. Он улыбается, шутит. О жене не рассказал». Мы узнаём, что называется, из первых рук, как в течение месяца во всех вечерних, а также «Литературной», газетах «много писалось о Замятине как авторе романа „Мы“. Бранили и требовали оргвыводов. Каждый номер газеты на даче буквально рвался. Каждое новое сообщение о Замятине обсуждалось горячо всеми. Сам Замятин, надо отдать ему должное, держал себя спокойно.
Перед отъездом Замятин показал письмо-ответ, которое он хотел послать в редакцию „Литературной“. Письмо было небольшое и сжатое. Во всяком случае, оно претерпело, видимо, много, прежде чем было послано в газету. В „Литературной“ было напечатано письмо длинное и острое. В нём Замятин заявлял о своём выходе из Союза писателей».
К самим же хозяевам «волхоза» Басалаев относится без особого почтения, снисходительно: Мария Степановна — только «с веником в руках или с иголкой и ножницами… В жаркие дни она надевает полотняные мальчишеские штанишки и сразу теряет свою последнюю женственность.
Она не пишет стихов, не рисует, не танцует. Она поёт. Однако это очень своеобразное пение, без готовых канонов, без памяти. У ней свои мотивы, свои мелодии, каждый раз новые, каждый раз вновь придумываемые. Потому ей иногда бывает трудно повторить одну и ту же песню… Несмотря на некоторое однообразие и унылую форму лейтмотива, в её пении — простом и несложном — всегда важен тон, окраска вещи; она умеет вложить в песню своё отношение к словам, дать в ней свой голос. Это очень самобытное пение. Так поёт птица, так поёт простоволосая деревенская женщина — для себя, для своего сердца, для своего ребёнка».
Сам же поэт выглядит в воспоминаниях журналиста дряхлым стариком, шастающим по дому со своими бумажками и жаждущим внимания слушателей: «Слева за выступом стены скрипнула дверь и послышались шаги.
— Вы ещё не спите? — теноровый знакомый голос.
— Пожалуйста, Макс! — привстал Всеволод. — Входи!
… Он сел на край кровати, подвинул лампу ближе… Поднял тонкий, папиросной бумаги лист на уровень лица, ближе к блестевшим пенсне, и прочёл:
— Сказание об искушении инока Епифания бесами.
Здесь, на чердаке, он показался другим… перед нами сидел по-домашнему простой, оживлённый старик, с короткой полной шеей и толстой спиной, полнота которой ему явно мешала. Его спутанные — в этот час без ремешка — волосы лезли в глаза, он смахивал их со лба лёгкой рукой, снимая пенсне и становясь на секунду незнакомым. Грузное тело его, осевшее на кровати, было неуклюже и нескладно.
Свои стихи он читает немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие… Чудовищная в наше время тема должна восприниматься иронически. Но, благодаря наивности тона, искренности и духу примитива, сказание трогательно живо». Единственное, что привлекло в пожилом поэте молодого советского человека, это совершенное владение иронией: «Оттого постоянно чувствуется расстояние между ним и объектом. Все рассказы его прошиты иронической ниткой мастера, познавшего богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, — ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает…»
Другой молодой человек, впервые посетивший Коктебель, филолог Моисей Альтман, был настроен более серьёзно. Его как литературоведа интересовала прежде всего поэзия Волошина: «Читает он без всякой напевности, отчеканивая и выбрасывая с огромной силой каждое слово, а слова эти между собой никаким цементом связок и частиц не соединены, держась друг на друге собственной своей тяжестью. И язык его в огромном рту словно камни ворочает и выбрасывает за „ограду зубов“ (сказал бы Гомер) прямо в уши, разрывая их, и сквозь них — прямо к вам на дно, я бы сказал, даже не души (это звучало бы розово), а внутренностей, желудка, живота: так весь организм им потрясается. Его слова в его чтении действуют почти физически. И стихотворение в целом — циклопическая постройка… Основное — сила. И самое близкое определение, какое я мог дать его стихам… это то, что они львиные… Подавляла и эрудиция не учёного, а образованного человека. Что ни назовёт — и в самых различных областях, и в „моей“ даже области (античность), — а я и не слыхал. Вот где бы и у кого поучиться»…
А Учитель между тем действительно на глазах стареет, сильно сдаёт. Удручающее впечатление он производит на Юлию Оболенскую, посетившую Коктебель в сентябре: «…всегдашний детский задор, но силы уже не прежние и то, что прежде было только курьёзно, сейчас трагично». Поэт ещё держится за жизнь: отбирает акварели на выставку Общества имени Костанди в Одессе, начинает переводить две новеллы Флобера для готовящегося собрания сочинений писателя… Но силы уже на исходе. 9 декабря у художника случился инсульт, вызвавший расстройство артикуляции, а также — парез руки и ноги. Но даже и в этом состоянии Макс пытается шутить. «Моё астральное тело кем-то похищено», — сообщил он Богаевскому. Однако, увы, не до шуток. «Уже Макса нет, это не прежний Макс!» — заключает его старый друг.
К счастью, через неделю здоровье Волошина частично восстановилось, он начинает подходить к рабочему столу, а в январе пытается рисовать. Поэт заканчивает переводы из Флобера, и Госиздат выплачивает ему гонорар. По весне он уже гуляет, старается регулярно уделять толику времени работе, но быстро устаёт. Радуют вести, касающиеся его акварелей. Ещё в декабре художник узнал об успехе одесской выставки и даже получил деньги от продажи двадцати работ; теперь же становится известно, что несколько его произведений отправлено в Лондон, кое-что продаётся и в своей стране. В общем-то жизнь была бы вполне сносной, если бы не постоянные удары со стороны местных властей: то Курорттрест покушается на часть его дома, то какие-то чины забирают хлебные карточки: «Будем кормить только рабочих!» Волошин понимает: эти атаки будут продолжаться. На исходе жизни ему постоянно приходится защищаться, писать в различные инстанции, объяснять, просить, изворачиваться. Он пытается найти надёжную защиту, отойти под эгиду Пушкинского Дома или Литфонда; затевается соответствующая переписка с руководством этих организаций… Грустно, прискорбно, если не сказать, трагично: на это уходят последние запасы жизненной энергии…