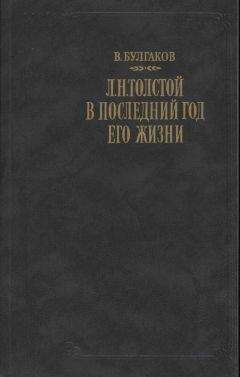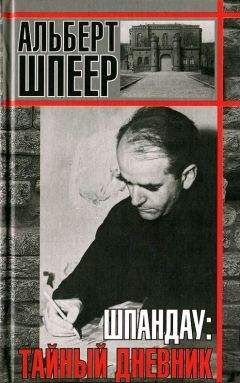Александр Гольденвейзер - Вблизи Толстого. (Записки за пятнадцать лет)
— Я прежде принадлежал к писательскому цеху и по привычке все слежу и интересуюсь тем, что там делается.
— Часто у хороших писателей встречаются непростительные небрежности: у Успенского я, например, прочитал где- то, что он шел с шурином и деверем, или у Короленко, что, когда ударили к светлой заутрене, было светло от месяца, а пасха не может быть в полнолуние. Мне давно еще все говорили о Печерском. Я раскрыл и прочел, что русский мужик «ронит» — и выражение какое нелепое! — двухсотлетний дуб, чтобы сделать оглоблю или ось. Ну, где он найдет такого дурака? С меня было довольно, и я не стал читать его.
— Эти примеры из Успенского и Короленко, разумеется, незначительны, это просто обмолвки. Но когда делаются такие же ошибки психологические, когда в повестях и рассказах люди делают то, чего они не могут делать по своему душевному складу, — это ужасно. А такими ошибками преисполнены все произведения Андреевых и др. Да и у Горького это на каждом шагу. Например, рассказ «О серебряных застежках» или рассуждения женщин в «Троих». «Мещане» совсем неинтересны. Среда взята какая‑то межеумочная, нетипичная. Все это ни на что никому не нужно.
— Я постоянно боюсь попасть в роль тех стариков, которые теряют способность ценить настоящее и понимать его. Но я стараюсь и положительно не могу найти прелесть в современном направлении искусства. Недавно о Горьком была совершенно справедливая статья Евгения Маркова. Он, хотя и довольно робко, так как Горький теперь сделался таким кумиром, что об нем не решаются говорить, но все- таки верно указал, что русская современная литература вообще, а Горький в частности, совершенно уклонилась от тех высоких нравственных задач, которые она прежде постоянно преследовала. И действительно, какое полное отрицание нравственных начал! Можно распутничать, можно грабить, можно убивать, для личности нет никаких преград, все дозволено…
— Но мне все‑таки импонирует, что Европа его так переводит, читает. Несомненно, что‑то новое в нем есть. Главная его заслуга в том, что он стал в натуральную величину писать мир заброшенных оборванцев, босяков, о котором прежде почти не говорили. Он в этом отношении сделал то же, что в свое время сделали Тургенев, Григорович по отношению мира крестьянского…
— Я очень люблю Чехова и ценю его писания, но его «Три сестры» я не мог себя заставить прочитать. К чему все это? Вообще у современных писателей утрачено представление о том, что такое драма. Драма должна вместо того, чтобы рассказать нам всю жизнь человека, поставить его в такое положение, завязать такой узел, при распутывании которого он сказался бы весь. Вот я себе позволял порицать Шекспира. Но ведь у него всякий человек действует; и всегда ясно, почему он поступает именно так. У него столбы стояли с надписью: лунный свет, дом. И слава Богу! потому что все внимание сосредоточивалось на существе драмы; а теперь совершенно наоборот.
С отвращением Л. Н. отозвался о «Бездне» Л. Андреева и сказал:
— По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинцбурга, как картавый мальчик рассказывает другому: «Я шой гуйять и вдъюг вижю бежит войк… испугайся?.. испугайся?..» Так и Андреев все спрашивает меня: «испугайся?» А я нисколько не испугался.
Вчера говорили о кружке Герцена, Бакунина, Белинского.
Л. Н. сказал:
— Наиболее характерной чертой этих людей был какой- то эпикуреизм или, во всяком случае, отрицание, полное непонимание религиозного мировоззрения. Вот доктор Никитин удивился, что я не считаю Гоголя сумасшедшим. Они произвели Гоголя в сумасшедшие, потому что он в Бога верил. И даже не могли понять того, что происходило в его душе.
Л. Н. очень отрицательно отозвался о знаменитом письме Белинского к Гоголю.
Доктор Буткевич спросил Л.H.:
— Вы читали новую вещь Метерлинка «Монна Ванна»?
Л. Н. ответил:
— За что? Разве я что‑нибудь сделал?
Кто‑то сказал, что «Власть тьмы» редко бывает интересна народу. Л. Н. на это сказал:
— Для народа надо писать не так сложно и значительно короче, вот как рисует Софья Андреевна: все в профиль и все на одной плоскости; а между тем детям никакие покупные картинки не доставляют такого наслаждения. То же в смысле простоты и примитивности формы и для народа.
Л. Н. сказал еще:
— Я много за последнее время думал об этом: искусство существует двух родов и оба одинаково нужны — одно просто дает радость, отраду людям, а другое поучает их.
Вчера Л. Н. порицал ученых (поминал при этом Мечникова) за их отрицание и непонимание религиозного миросозерцания.
Заговорили о новом русском университете в Париже. Л. Н. относится к этой затее скептически и сказал:
— Сидят там и слушают их какие‑то семьдесят девиц, а они их поучают.
Софья Александровна Стахович заметила что‑то о вреде, который они этим девицам приносят, но Л. Н. возразил:
— Ну уж они и без того готовы.
28 июля. На днях гуляли в лесу. Л. Н. присел на палку — стул, которую ему подарил Сергеенко, вздохнул и сказал:
— Да, бедный!
Потом обратился к Марье Львовне и спросил:
— Маша, кто бедный?
— Не знаю, папа.
— Будда. Сократа Сергеенко испакостил, а теперь за Будду принимается. (Он писал о них драмы.)
Вчера Л. Н. показывал портрет — группу братьев Толстых, указав на брата Николая, сказал:
— Он был мой любимый брат. Это человек, о котором справедливо сказал Тургенев, что у него не было ни одного из тех недостатков, которые необходимо иметь, чтобы быть писателем. А я, хотя это и зло с моей стороны, скажу про моего сына Льва, что у него, наоборот, есть все эти недостатки и нет ни одного нужного достоинства.
Илья Львович сказал С. А. Стахович, что писатель должен все сам пережить, чтобы рассказать другим.
Л. Н. возразил:
— Для уменья описать то, что пережил сам, писателю иногда достаточно одной техники. Настоящий писатель, как справедливо заметил Гёте, должен уметь все описать. И я должен сказать, что хотя и не очень люблю Гёте, но он это мог.
Нынче Л. Н. восхищался операми Моцарта, особенно «Дон — Жуаном». Наряду с необыкновенным мелодическим богатством он особенно высоко ставит в этой опере замечательное отражение в музыке характеров и положений. Л. Н. вспоминал статую командора, сельскую картину и в особенности сцену поединка. Он сказал:
— Здесь я слышу и как бы предчувствие трагической развязки, и волнение, и даже эту поэзию дуэли…
Потом Л. Н. перевел как‑то разговор на значение и роль формы в искусстве:
— Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразно, то также — и их форма. Как‑то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом — «Записки охотника», — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек, — «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»…