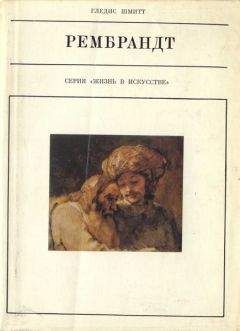Юрий Комарницкий - Старший камеры № 75
Потрясенный, я ушел в санчасть. Я знал этого заключенного. Молодой двадцатилетний парень не выдержал издевательств: с одной стороны — «блатных», а с другой — администрации, которая, как я уже писал, сотрудничала рука об руку с уголовным миром. Блатные заставляли его вязать хозяйственные сетки, ежедневная норма которых составляла двенадцать штук. Свою личную норму делать он не успевал, за что его избивали прапорщики. За это же били блатные, которые обложили непомерным оброком. Помню, как однажды, на общелагерной проверке его не досчитались. Вскоре его все же нашли в канализационном люке, куда он спрятался, словно загнанный зверь. Тогда его стали избивать тут же в строю за задержку проверки. И вот пришел финиш, человек не выдержал.
Итак, курс лечения я прошел. Диагноз: сотрясение мозга. В легкой степени. В легкости я сомневался, так как постоянно испытывал рвоту и головокружение. После выписки я пошел в барак, а затем мне предстояло идти в штрафной изолятор на пятнадцать суток.
Завидев меня в бригаде, блатные осклабились в улыбках. Бригадир Амангул сверкнул рандолевыми зубами и сказал:
— Я же тебе говорил — так не бывает!.. Сам по себе никто не живет… А теперь собирайся в изолятор, отрядный с утра уже про тебя спрашивал.
Я знал, что в штрафном изоляторе жесточайшие голод и холод. Сигареты и белье пронести невозможно. Впрочем, к тому времени сигарет у меня не было.
Случалось, некоторым заключенным удавалось, в зависимости от дежурной смены, пронести теплое белье. Из каптерки я принес свой вещмешок, достал единственную пару теплого белья, но прежде чем одеть, вышел из барака в туалет. Через пять-десять минут, когда я возвратился в барак, белья на месте не оказалось. Подлость блатных в местах лишения свободы всегда стабильна и последовательна. Впоследствии один из них, азербайджанец Ромазанов, отдал мне заношенное белье, с поддельной наивностью оправдываясь:
— Ты же в изолятор шел, а там все равно не разрешают.
На территории колонии находилось здание изолятора (ШИЗО), огороженное дощатым забором и рядами колючей проволоки. Часть камер отведена под так называемый в уголовном мире БУР[14], где люди сидят по шесть и больше месяцев. БУР отапливается, что касается камер суточников, отопление и кормежка здесь весьма условные.
Первым делом, когда меня завели в приемную изолятора, я подвергся введенному в правило избиению. Пьяный прапорщик, казах, методично бил меня кулаком под сердце, хохотал, твердя слова:
— Попался, сука… хи-хи… говоришь, здоровый, ги-ги-ги. Мы у тебя здоровье быстро заберем.
В правдивости его слов я не сомневался, стоял, стараясь выставить плечо, чтобы хоть как-то смягчить удары.
Меня проверили — нет ли белья и втолкнули в камеру.
В камере находилось примерно 18 человек. Камера — бетонированный ящик, в котором из дерева — только нары, закрепляющиеся на день к стене. Возле противоположной стены на уровне поднятых рук проходила железная труба отопительной системы. Сквозь выбитое стекло и решетку гуляли предновогодний мороз и ветер. На бетонных стенах серебрился слой инея. Заключенные, словно верующие на молитве, стояли, подняв руки вверх, сжимая в кулаках единственный источник тепла — отопительную трубу. Уже через двадцать минут я ощутил, как холод колючими иглами вонзился в мое тело. Как только мы пытались заткнуть дыры в окне лоскутами, выдранными из одежды, в камеру врывались прапорщики и железными клюками выталкивали затычки.
В ШИЗО сидели люди, посаженные за самые различные провинности. За отказ от работы, попытку пронести из рабочей зоны в жилую головку лука, за невыполненную норму. Озлобленные люди, вместо того, чтобы поддерживать друг друга морально, не говоря о физической поддержке, готовы были друг друга загрызть. То и дело лишали кого-либо из сокамерников затяжки самокрутки, набитой больше мусором, чем табаком.
Как только в десять вечера прозвенел звонок отбоя и нару разрешили опустить, начались омерзительные ссоры и драки за место посередине нары, где можно было хоть немного согреться за счет тепла соседа. Я кое-как занял место с краю. Одна из досок подо мной зияла пустотой, ноги проваливались в дыру. Нескольким заключенным места вообще не досталось.
Ночь была заполнена дробью отстукивающих от холода зубов, кошмарами и боязнью не прозевать момент переворачивания с бока на бок.
В случае, если тот или иной заключенный не успевал это сделать, на его голову сыпался град ударов.
В шесть часов утра прозвенел ненавистный звонок подъема. Голодных и холодных, нас пересчитали, сводили на оправку, выдали по куску хлеба и кружке чистого кипятка. Все началось сызнова. На прогулку в ШИЗО не водили, да и о какой прогулке могла идти речь, если за стенами стоял сорокаградусный казахстанский мороз.
Я понял, что судьба послала мне еще одно испытание. Возможно, кто-то скажет, что пятнадцать суток — чепуха, мол, человек и не то выдерживает. Я же утверждаю, что пятнадцать суток, проведенных в описанных мной условиях, вполне достаточно, чтобы человек заполучил хроническое заболевание или лишился рассудка. Если внутри колонии убивал голод, здесь убийцей в первую очередь был холод. Все без исключения штрафники после отбытия пятнадцати суток или в процессе пребывания попадали в лагерную санчасть. Кто с воспалением легких, кто с заболеваниями печени, почек, непонятными заболеваниями кожи.
На следующее утро один из заключенных, Алексей Шлыков, не поднялся. Его тело распухло до неимоверных размеров, покрылось, как у висельника, синевой. Если верить местной медицине — отказали почки. Спасти его, кажется, удалось, но такие изменения в организме вряд ли останутся без последствий. Язва желудка здесь заболеванием не считалась. Только в случае прободения язвы людей забирали и увозили в отдаленный, за сто километров, город Каркаралинск.
На девятые сутки мое изможденное тело покрылось мелкими нарывами, не пощадившими даже ладони рук и ступни ног. Я опять оказался в санчасти. Излечили меня элементарные, но в то же время важнейшие лекарства. Этими лекарствами были продукты из посылки матери, пришедшей до странного вовремя, и тепло лагерной санчасти.
В штрафном изоляторе я увидел еше одну нелепую смерть начинающего жить молодого парня. Но поскольку любая смерть нелепа, эту смерть лучше назвать смертью, устроенной администрацией лагеря. В ту новогоднюю ночь, о которой я упоминал, мы все же получили своеобразный новогодний «подарок».
Кто-то нарушил мой свинцовый сон ударом локтя в грудь. Когда я очнулся и ошалело сел на нару, все в камере созерцали необычное зрелище. Оказывается, несколько минут тому назад пьяные прапорщики бросили к нам в камеру изможденное существо, которое уже трудно было назвать человеком. В обтянутом кожей черепе светились безумием лихорадочные глаза. Живой скелет скрючился и, сидя на корточках, обгладывал обыкновенный камерный веник.