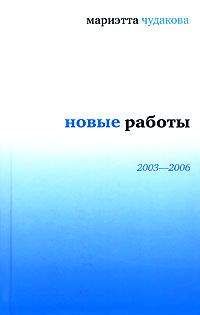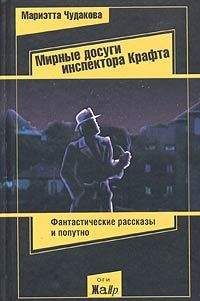Мариэтта Чудакова - Эффенди Капиев
«Выясняю год своего рождения. Спрашиваю у матери.
— Ты родился после смерти своей бабушки через полгода. В каком году умерла бабушка, я не могу сказать, но когда лежала я после родов, помню хорошо, что отец твой принес мне виноград. Значит, это было осенью…
— Но когда же все-таки умерла бабушка?
— Наверно, в том году, когда мы продали своего осла. Я даже наверняка помню, что это было в том году.
— Хорошо, а как же узнать все-таки точнее, какой это был год? Неужели в этом году больше никаких событий не было?
— Кажется, в том году много говорили об убийстве в Шуре пристава. Да, да, это верно. Поди и спроси муллу, когда убили пристава в Шуре. Он наверняка скажет точно».
Рассказ точно такого же рода можно услышать от любого дагестанца его поколения.
Позднее у Капиевых родились еще три дочери. Семья была многодетная; биографы Капиева здесь по традиции добавляют: «и очень бедная». Это не совсем так. Старшая сестра рассказывает: «Отец Капиева вовсе не «уходил постоянно на заработки». В станице Аргаки у Мансура Капиева была маленькая мастерская золотых изделий и собственная лавка. Был, кроме того, дом в Воронцово-Николаевске — нынешнем Сальске. Дом этот Мансур сдавал в аренду армянину. Армянин держал там номера под непритязательным названием «Париж — Новый свет»…
Ведя торговые дела в местности, наполовину заселенной русскими, Мансур Капиев неплохо знал русский язык, как, впрочем, многие лакцы — жители Кумуха. Русский ученый Н. И. Кузнецов, путешествовавший в 1911 году по Дагестану, отмечал специально эту особенность аула — центра Лакии. «В Кумухе не только молодые люди, но и пожилые, и многие старики говорят по-русски, даже женщины некоторые, не исключая старых, знают хорошо наш язык. Когда мы верхом проезжали по улицам Кумуха, ребятишки приветствовали нас русскими приветствиями: «Здравствуйте, дяденька, здравствуйте, барин»…»
На сам быт жителей Кумуха это, впрочем, влияния почти не оказывало. Потому для жены Мансура Капиева Айшат, девушки из горного аула, первое время все связанное с бытом русских было до оторопи непривычным. «Когда моя мать, впервые выехав из аула, попала в русский городок, где отец тогда работал в мастерской, — писал потом Капиев, — то больше всего ее поразили здесь свиньи, пасшиеся на пустыре. Она полчаса стояла, окаменев, точно увидев черта. (Ведь в горах свинья существует лишь в ругательствах и по религии проклята, как и сатана, — откуда было бедной горянке видеть живую, хрюкающую свинью?)».
Мансур выучил жену читать и писать по-русски. Когда родился Эффенди, мать его была уже достаточно грамотна, чтобы в отсутствие мужа вести дела в лавке. Мансур часто уезжал в Ростов и присылал ей оттуда товары. Она могла не только сосчитать их, но и записать. Русский язык играл в семейном укладе Капиевых немаловажную роль.
Отец часто привозил из Ростова русские книги — обычно сказки. Их читали детям вслух отец, мать, иногда Гасан-Гусейн — их родственник, помощник отца в лавке. С ним маленький Эффенди дружил. Вечерами надоедал ему одной и той же просьбой: «Расскажи!» Это означало: «Расскажи сказку!»
Из далекого русского города отец привозил и игрушки, которые Эффенди исправно разорял, а однажды подарил сыну игрушечную лошадку. Эффенди до изнеможения катался на ней по двору и кричал:
— Гасан-Гусейн! Ты, наверно, от радости умираешь, что у меня такой лисапед!
Зимы в степном краю стояли лютые, со снежными бурями. Мальчик боялся их, со страхом прислушивался к завываниям ветра.
Мать говорила:
— Вон буря ищет, где маленький лакец.
— Скорей скажи ей, что лакцев здесь нет! — просил Эффенди.
Снежная буря, не утихая, гуляла по непривычным для горца просторам, и порою сама мать со страхом вглядывалась во тьму за окном. Ей мерещились несчастья.
Вместе со своими детьми мать растила сироту Дамадана — родственника. Его отца убили несколько лет назад кровники. Однажды Дамадан поехал в другое село, к дяде. Дядя избил его за что-то. И мальчик пешком решил вернуться домой. «Обо всем этом мы узнали лишь на следующий день, — рассказывает Э. Капиев. — Но в эту ночь матери моей приснился отец Дамадана. Он будто вошел в саклю в черной бурке и, сев на нары, снял папаху. Голова его была свежебритая, синяя. — Айшат, — сказал он хмуро, обращаясь к матери, — почему ты не смотришь за моим сыном? Нехорошо!
Мать проснулась в страхе. И действительно, в эту ночь Дамадан, оказывается, сбился с пути и едва не погиб в снежном буране… С тех пор мать всегда чувствовала себя виноватой перед ним и всячески угождала сироте».
Дома у Капиевых говорили, конечно, по-лакски. Но все друзья были русскими — Коля и Костя Песоцкие, другие ровесники, школьные подруги сестер. На улице дети Капиевых говорили только по-русски. Да и дома, когда дети приходили со своими приятелями, родители из вежливости переходили на русский язык.
Итак, до девяти лет Эффенди жил не в дагестанском ауле, а в станице, где кругом звучала русская речь. Старшая сестра Капиева, Гайбат, вспоминает, правда, что это был «не тот русский язык», который они услышали постом в Буйнакске. Это было скорее смешанное русско-украинское наречие, характерное для тех мест. До школы дети Капиевых на таком именно языке и говорили. «Вит-киля ты идешь?» — спрашивали они, пребывая в уверенности, что говорят на чистейшем русском языке.
Когда Эффенди было шесть лет, старшие его сестры пошли в сельскую русскую школу. Дома появились новые книги — учебники. Он хватал их, листал, вглядывался в рисунки, бежал к матери с вопросами. «Детство мое. В учебнике скелет. Мать объясняет, что это костяной человек, который живет в море. Мне страшно. Он мне часто снится, и я чувствую смутно — это смерть».
Сестер летом возили в Кумух — учить корану. Иначе отцу грозила ссора со старшим братом — по горским понятиям, вещь немыслимая. (Жену можно найти другую — брата найти нельзя.) Брат Махмуд-Гаджи получил хорошее мусульманское образование и с неудовольствием наблюдал за образом жизни семьи Мансура. Эффенди мать пожалела. «Как он будет целыми днями стоять в медресе на коленях? Он ведь у нас маленький».
Жалость ее была материнская, неосновательная. Всех мальчиков начинали учить именно с этого времени — с пяти или шести лет. С утра они уже стояли в медресе на коленях, каждый перед своим низеньким столиком из двух перекрещенных досок, на которых удобно умещалась раскрытая книга. Книга была одна — коран. Считалось — двадцать пять лет надо учиться, чтобы научиться читать и понимать все его 114 сур (глав). Два года шло только на то, чтобы выучиться арабской грамоте и заучить наизусть несколько сур на языке, так и остававшемся непонятным. Обучение не приносило муталлимам (ученикам) особой радости. Отец, передавая сына мулле, говорил: