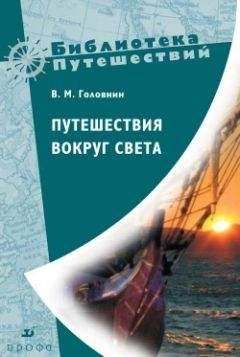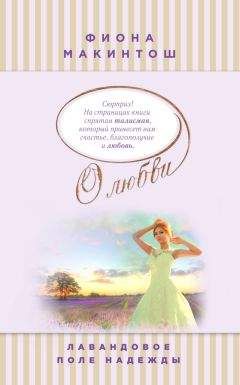Василий Головнин - Записки капитана флота
99
Это был не тот лекарь, который совершил с нами путешествие из Кронштадта, он из-за болезни отправлен был в Петербург.
100
На сей шлюпке было шестнадцать отборных японских гребцов, в числе коих большая половина находилась известных и богатых купцов, как мне сказывал о том Кахи. Они приняли на себя труд сей для удовлетворения своему любопытству, чтобы ближе посмотреть на нас. Гребля их отлична от европейской: весел они не закидывали вперед, как обыкновенно у нас делается, но по направлению почти судна повертывали оными сверху вниз и обратно и давали судну скорость в ходе, равную нашей гребле.
101
Этот чиновник оказался, как после с ним познакомились, переводчиком, обучившимся у господина Головнина русскому языку. Имя его Мураками-Теске.
102
Должно заметить, что сие обыкновение не без исключения: у князя Синдайского салюты в обыкновении, и он всегда отъезжает из своего княжества и возвращается при пушечной пальбе.
103
Надобно знать, что Кахи в числе японских чиновников находился также в доме при нашем свидании, но в половине еще разговора, подойдя ко мне, сказал: «Господин начальник, я нездоров, извини меня» и, откланявшись, оставил нас и более уже не возвращался. При сем случае и съехавшие со мною для свидания со своими товарищами матросы, все еще сомневавшиеся в искренности японцев, испугались, увидев выходящего из дома одного Кахи, который, проходя мимо них, сказал: «Прощай». Из этого они заключили было, что меня, наверно, захватили.
104
Здесь Кахи разумел известный Диогенов фонарь, о коем я ему в Камчатке между прочими анекдотами рассказывал, доставляя ему тем величайшее удовольствие; особенно пленяли его примеры благородства и великости души, подобные поступку знаменитого Долгорукого, изорвавшего указ Петра Великого. Кахи по выслушании такого анекдота всегда поднимал руки в знак почитания на голову, произнося с особенным душевным движением: «Оки, оки!» (т. е. «Великий!) и потом, прижимая их к сердцу, говорил: «Кусыри!» (т. е. «Лекарство!»). Сим словом он называл всякую особо ему нравящуюся пищу, чтоб в высшей степени похвалить ее.
105
Забавный старик Каху хотя много восхищался нравственною моею, как он называл, пищею с похвалою «Кусыри!», но не менее того любил, чтоб и настоящая пища была для него «кусыри».
106
Они состояли из фарфоровых с живописью ваз, мраморных столовых досок и разного сорта хрустальной посуды.
107
Образ нашего житья ему весьма нравился, и хотя он не мог сидеть с нами за одним столом по причине, как известно, противной японскому вкусу нашей мясной пищи, но он приноравливал иметь свой обед в одно время с нашим, чай же всегда пил вместе со мною и большею частью без сахару; затем после ел оный вместо конфет целыми кусками.
108
При сем случае капитан Головнин подарил мне достопамятную свою саблю, которую во время его плена любопытствовал видеть японский император. Сей драгоценный для меня памятник по чувствам моим всегда почитаться будет истинною для меня наградою. Г-н Головнин также в память своего избавления подарил всем офицерам шлюпа зрительные свои трубы, астрономические инструменты и пистолеты; при сем не могу я умолчать о благодарности, изъявленной им нижним чинам. Из денег, вырученных за проданное в Охотске с аукциона после взятия в плен его имущество, дал он старшим унтер-офицерам по 100 рублей, младшим – по 75 рублей, а рядовым – по 25 рублей; матросам же, бывшим с ним в плену, – по 500 рублей, а сверх того Макарову, который оказал ему в плену известные уже читателю услуги, назначил получать ежегодно полное количество морского провианта, какое сле дует по регламенту матросу на кораблях, из деревни его в Рязанской губернии, близ которой находится родина Макарова. Курильцу Алексею г-н Головнин подарил плотничных инструментов, винтовку, пороху, свинцу и табаку на 250 рублей.