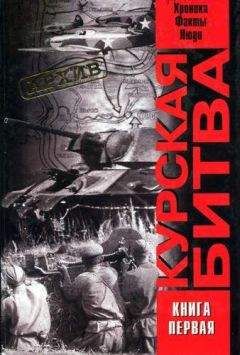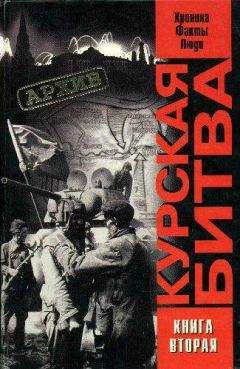Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
А вот другой инцидент, когда Игорю было 8 лет, и он брал уроки на скрипке (и очень успешно). — «В четверг утром Игорь довел меня до самой настоящей истерики. Я дошла до того, что держалась обеими руками за голову, выла, орала: «а-а-а», и не могла остановиться. Игорь страшно перепугался. На урок музыки я его отправила одного. В первый раз. Он говорил: «Мамочка, я не могу идти!», и хватался за горло: видимо, схватывали спазмы. Я все-таки его отправила, думала — на воздухе пройдет, успокоится. Сама, однако, не успокоилась, и слегка прибрав комнату, пошла в Потену (магазин), а оттуда к Елизавете Алексеевне. У нее урок, дети сидят за столом.
— А что же Игорь не пришел?
— Как не пришел? — Я так сразу и ослабела вся. Домой почти бежала. Он, конечно, дома. Сначала начал было врать, что опоздал, потом сказал, что дошел до калитки и пошел назад. Почему, объяснить не мог…Весь этот день после этого я была, конечно, сама не своя. Мамочки весь день не было дома. Папа-Коля застал только эпилог, не знаю, понял ли что-нибудь…»
…С болью в душе вспоминаю я эти предвоенные годы. Мы все делались какими то нервно-больными, словно ненормальными… Ирина часто думала о смерти…
Что скажу я маленькому сыну?
Чем себя посмею оправдать?
— Если я сейчас тебя покину,
Значит, я была — плохая мать.
Значит, сердцу было очень больно,
Значит, силы не хватало жить.
Значит, сердце стукнуло — довольно!
Как же быть?
Я оставлю небольшую память
(Жизнь моя большою не была).
Вспоминая о покойной маме,
Будешь думать: «мама не могла»,
Не согнись от первого страданья
(Еще много горя впереди).
А когда большим и сильным станешь —
Слабую меня не осуди.
1937
С рождением сына Ирина связывала и свою судьбу, — в нем она видела себя самое.
В нем всё понятно, всё похоже,
В нём жизнь кончается моя.
…И всё любимое, родное,
Всю душу темную мою,
Всё, не содеянное мною,
Ему сейчас передаю.
Всё, чем жила, чего хотела,
Всю жизнь без завтрашнего дня,
И это маленькое тело
Всё — продолжение меня.
А я? А все мои — затеи?
О чем грустить? О чем молчать?
Чем старше он, чем он сильнее, —
Тем больше умирает мать.
Ирина видела в сыне свое оправдание, свою защиту и в настоящем и в будущем. В тяжелые минуты она как бы поверяет ему свои жалобы, когда пишет, что «… робкому мальчишке все стихи и слезы отдала…»
С ним она, разговаривая, словно думала вслух. Вот, например, трогательное стихотворение, полное мрачных предчувствий.
Мы опять с тобой одни остались.
К нам никто сегодня не придет.
Вновь — дневная, грубая усталость,
Тишина (уже который год?)
Ты устал, набегался немало.
Спать тебя в кроватку уложу.
Заверну пушистым одеялом,
Сказку про медведей расскажу.
Хорошо, что ты не понимаешь
Этой бедной жизни. Ведь и ты
Никогда, должно быть, не узнаешь
Жизненной счастливой полноты.
Никогда! А сердце жадно бредит
Только этим — долгие года.
Ты во сне увидишь трех медведей,
Я — тупое слово — никогда.
Никогда… А вечер длинный, длинный,
Тишина придет меня пытать.
В лампе нет, наверно, керосина
И придется свечку зажигать.
И под пламенем белесоватым
Стану я опять сама собой —
Слабой, одинокой, виноватой,
С жалкой и обиженной душой.
5. III.1993
Чувствуя близость неизбежной разлуки («где-то — тяжелым молчаньем — уже недалекая смерть») Ирина все больше и больше озабочивалась его судьбой. Ее заветы сыну выражены в ряде трогательных стихотворений. В одном из них (вскоре после рождения Игоря) она говорит:
Отойду, к прошедшему остыну,
Замолчу, исчезну в мутной мгле,
Завещая маленькому сыну
Мысль о счастье и любовь к земле.
Эта «любовь к земле» у Ирины была органическим ощущением. Она «любила простую землю до боли огненной», «пшеничные поля», с радостью видела, «как жизнь играет», «как ветер лижет шторы и солнце плещется в траве». Одно свое стихотворение она заканчивает так:
Я всё люблю: лесную тишину,
И городов широкое движенье.
И, пережив последнюю весну,
Я в жизни ничего не прокляну,
Но и отдам ее без сожаленья.
И, думая о сыне, она говорит:
И взлюбив, как бесценное благо,
Землю, землю под твердой ногой,
В жизнь войдешь ты бездомным бродягой
С беспокойной и жадной душой.
В эпоху нашего беженства такие неопределенные напутствия, пожалуй, только и могли быть реальностью. Но так было до поры до времени. Вскоре, когда вступила в войну Россия, вопрос о будушрости Игоря стал на очень конкретную, и даже срочную, почву. Как известно, русская эмиграция в подавляющем большинстве, особенно в той части русской общественности, к которой принадлежали мы, была определенно оборонческой. Начальные неудачи России вызвали чувство глубокой обиды, уязвленного национального сознания и патриотического подъема. Это, в конечном счете, приводило, хотя к осторожному, но, во всяком случае, сближению с советской действительностью. Тезисы о том, что русская зарубежная молодежь, не знающая режима царской эпохи, найдет общий язык с советской молодежью, тоже этого режима не знающей, были очень распространены в русском обществе Парижа, писались статьи, читались доклады, собирались группы. Русская передовая мысль, выраженная в передовых русских изданиях, как бы закипела, и остаться в стороне от этого движения могли только те, для которых дело русской, культуры стало почти чужим. Что же касается нашей семьи, в которой все были связаны с русской историей и литературой, где отец и мать Игоря были русские поэты, где вообще была связь лишь с французским бытом, а не с культурой, т. е. в нашей семье этот вопрос вообще не должен был бы и подниматься, однако он возник в отношении Игоря.
В одном из своих стихотворений Ирина говорит об Игоре: