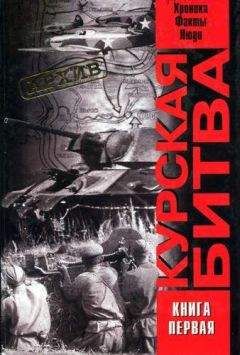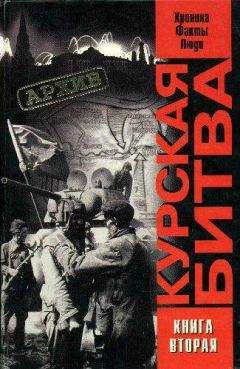Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
7. XI.1935
В этих поездках Ирина как бы ощущала всю полноту существования.
Вот все бы так, без слез, без смеха,
— Не находить, не покидать, —
А просто ехать, ехать, ехать…
И никуда не приезжать!
Но, словно не допуская такого счастья, она через две недели несколько переделала всё стихотворение, прибавив новые строфы, и, между прочим, вместо приведенной конечной строфы написала:
Ведь так легко, теряя память,
Среди безжизненных полей
Нестись спокойно и упрямо
Навстречу гибели своей.
Предчувствие печального исхода слышится и в других стихах этого цикла. Она словно хочет полнее использовать данное ей судьбой время.
Этим летом опять поедем
Вдоль далеких дорог — ты и я.
Снова будем на велосипеде
Проезжать чужие края.
Мы должны побывать в Бретани.
Мы должны… но скорей, скорей!
Как нам страшно в мерзлом тумане
У мигающих фонарей.
Ведь потом ничего не будет
Мы должны еще много узнать.
Ведь уходят и годы, и люди,
Торопись, торопись не отстать!
Мы должны… но молчи об этом!
Только лето у нас с тобой.
Больше мы не увидим света,
Никогда не вернемся домой.
Это наше последнее лето
Перед смертью или войной.
12. II.1936
Война началась через три года, и Ирина с Юрием успели побывать и на океане, и в Нормандии и, уже во время самой войны, им удалось побывать в Бретани, но уже радость этой поездки была омрачена тяжелыми впечатлениями войны.
О чем писать? О лете, о Бретани?
О грузном море у тяжелых скал,
Где рев сирен (других сирен!) в тумане
На берегу всю ночь не умолкал.
О чем еще? О беспощадном ветре,
О знойной и бескрайней синеве,
О придорожных столбиках в траве,
Считающих азартно километры?
О чем? Как выезжали утром рано
Вдоль уходящих в новизну дорог?
И как старик, похожий на Бертрана,
Тащился в деревенский кабачок?
Как это все и мелко и ничтожно —
В предчувствии трагической зимы.
И так давно, что просто невозможно
Поверить в то, что это были мы.
Теперь, когда так грозно и жестоко,
Сквозь нежный синевеющий туман,
На нас — потерянных — летит с востока
Тяжелый вражеский аэроплан.
22. Х.1939
Поездка в Реймс — Эперней была для Ирины последней. В сущности, она ее сделала через силу — война давила ее беспощадно. Предполагалось даже, что Юрий поедет один. Но Ирине это было так грустно, что я со своей стороны сделал все возможное, чтобы она все-таки поехала. Она воспрянула духом, собрала все свои силы, и экскурсия прошла сравнительно благополучно. Появились бодрые ноты:
Километр за километром,
Бодро с самого утра,
Против бешеного ветра,
По горам, да по горам.
По крутым холмам Шампани,
Где везде — следы войны,
(Той и этой), где в тумане
Дали смуглые видны.
Где бескрайние просторы,
По дорогам скрип телег.
И еще совсем не скоро —
Скудный ужин и ночлег.
Но сильней всего на свете
Я люблю такие дни.
Впереди подъем и ветер.
Делать нечего! Гони!
19. III.1941
Это был последний выезд Ирины. Летом 1942 года, когда пришло время Юрьева отпуска, нечего было и думать о поездке вдвоем. Она была очень плоха, но усиленно уговаривала Юрия не терять своего отпуска и поехать одному… В память прежних экскурсий было решено, что Ирина сделает вместе с Юрием предварительную поездку по железной дороге до города Труа и оттуда вернется одна. Они поехали.
Ирина вернулась очень скоро, скорее, чем мы предполагали, вернулась расстроенная и очень раздраженная. На все наши вопросы, почему так рано вернулась, она отвечала недовольно и коротко…
Все стало понятно! Как было ее, родную, жаль в эти минуты!..
Милая моя Ириночка!..
ИГОРЬ
Сын, само появление которого было несколько неожиданно, явился для Ирины наградой за все ее жизненные горести.
Я знаю, как печальны звезды
В тоске бессонной по ночам,
И как многопудовый воздух
Тяжел для слабого плеча.
Я знаю, что, в тоске слабея,
Мне темных сил не одолеть,
Что жить во много раз труднее,
Чем добровольно умереть.
И в счастье — призрачном и зыбком —
Когда в тумане голова,
Я знаю цену всем улыбкам
И обещающим словам.
Я знаю, что не греют блёстки
Чужого, яркого огня,
Что холодок, сухой и жесткий,
Везде преследует меня…
Но мир таинственно светлеет,
И жизнь становится легка,
Когда, скользя, обхватит шею
Худая детская рука.
***
Я люблю заводные игрушки
И протяжное пенье волчка.
Пряди русых волос на подушке
И спокойный огонь камелька.
Я люблю в этом тихом покое,
После бешеной сутолки дня,
Свое сердце, совсем ледяное,
Хоть немножко согреть у огня.
Я люблю, когда лоб мой горячий
Тронет ласково чья-то ладонь.
А в углу — закатившийся мячик
И бесхвостый, облупленный конь.
Позабыв и тоску, и усталость,
Так легко обо всем говорить…
Это все, что мне в жизни осталось,
Все, что я научилась любить.
1934
Конечно, все детские праздники у нас справлялись очень торжественно и весело, особенно — рождественские. К елке готовились задолго, покупались игрушки, выбиралось дерево (обычно, на базаре у Нотр-Дам), клеились картонажи и, как всегда бывает в таких случаях, взрослые радовались не меньше детей.
Пока горят на елке свечи
И глазки детские горят,
Пока на сгорбленные плечи
Не давит тяжестью закат,
Пока обидой, злой и колкой,
Не лжет придушенная речь
И пахнет детством, пахнет елкой
И воском разноцветных свеч, —
Я забываю все волненья
И завтрашний, тяжелый день,
И от веселой детской лени
Впадаю в старческую лень.
Смотрю на детскую улыбку,
Склоняюсь к нежному плечу,
Не называю все ошибкой
И даже смерти не хочу.
29. ХII.1936