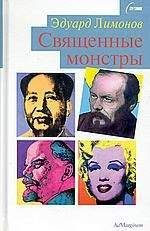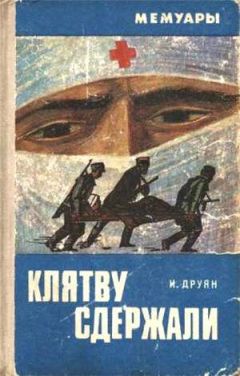Микола Садкович - Мадам Любовь
Что значили десятки, даже сотни крестьян со старыми ружьями, на лошадях, запряженных в сани, когда столько стран уже сложили знамена к ногам фюрера?
Непредвиденный ход событий на фронтах и в тылу опрокинул расчеты ученых стратегов.
О партизанах ходили разные слухи среди оккупантов. Одни говорили, что это всего лишь кучка комиссаров, возглавивших банды мужиков. Другие - что в тыл прорвалось крупное войсковое соединение Советской Армии, оснащенное артиллерией и танками, поддерживаемое авиацией.
Никто не знал правды. Немецкие генералы, воспитанные в строгих правилах военной теории, добрались до нее, когда было уже поздно, когда уже нельзя было остановить эту войну не по правилам. Какие тут могут быть правила.
Партизанскими отрядами и соединениями чаще всего командовали люди, не имеющие ни военной подготовки, ни опыта. Не имел ни того, ни другого и командир в черной бекеше.
Был Василий Иванович секретарем обкома и человеком до того мирным, что даже охоту на уток считал занятием жестоким и несправедливым. Если когда и стрелял секретарь, то разве что в тире парка культуры и отдыха - по фанерным капиталистам в цилиндрах. И вот довелось стать боевым командиром большого партизанского соединения.
В самом начале войны Минский областной комитет партии собрал группы надежных людей для подпольной работы. Первые недели и даже месяцы ушли на то, чтобы установить связь с районными подпольными группами, чтобы подчинить единому плану действия разрозненных партизанских отрядов.
Скоро немцы почувствовали, что боевые операции партизан, как и усиливающаяся работа городских подпольщиков, направляется некиим центром. Крупное подразделение эсэсовцев бросили на очистку Минской и соседней областей.
Что ни день, партизанам приходилось вести жестокие бои, маневрировать, менять свои базы. И все же к декабрю сорок первого года многие отряды вынуждены были отойти в глубь дальних районов, в сторону Старых Дорог, на Любанщину. Зима была суровая, снежная.
Отряды бродили в лесах. Малыми группами расходились по глухим деревням в поисках тепла и хлеба. На какое-то время затихло на Минщине и в Полесье. В Берлин полетели хвастливые рапорты, а в минских церквах будущие руководители "Белорусской рады" отслужили молебны. Но так же, как под ледяным покровом глухо роптали скрытые ручейки, гоня теплые струи навстречу друг другу, сливаясь в могучие реки, чтобы, однажды решившись, подняться всем стрежнем и оглушить окрестности грохотом взломанного льда, так же невидимо, тайно готовился в эти дни знаменитый санный рейд партизан.
Тяжелые осенние бои не только не ослабили партизанские отряды, но, как говорят военные, усилили их огневую мощь. Теперь редко в каком отряде не было трофейных автоматов, пулеметов, а некоторые гордились артиллерией захваченными легкими пушками и минометами. Но не ржаветь же им до весны, не ждать, пока очистятся от снега и просохнут дороги...
Там, где не мог пройти автомобиль, могла пройти лошадь, запряженная в крестьянские сани.
VI
Варвара-Люба:
Когда я первый раз услыхала о санном рейде? На кладбище услыхала, от горбатого мельника из нашего города. По каким делам он приезжал в Минск и зачем зашел на больничное кладбище, бог его знает. Кажется, это был "день поминания" или другой праздник, когда, по обычаю, собираются родственники у могилы близкого им человека. У нас это вот как происходило: украсят могилку еловыми ветками, помолятся. Потом расстелют на затвердевшем холмике белый платок, разложат закуски. Выпьют по чарке и, разомлев от самогона и "душевного поминания", умилятся не только своему горю, но и горю других... Пойдут от могилки к могилке, как гости...
Читая надписи, ахнут, наткнувшись на знакомые имена: "Боже мой!.. И этот тут... Совсем недавно, кажется..."
Заговорят о покойнике и незаметно для самих себя перейдут на житейские темы. Доверчиво выскажут то, о чем в другом месте и слова сказать не осмелились бы. Видно, близкое присутствие смерти как бы очищало людей от мелкой подозрительности, делало их добрее и лучше.
Полиция и немецкий патруль сюда редко заглядывали, так что можно было и пошептаться и повидать кого нужно.
Скорее всего, по этой причине пришел на кладбище и горбатый мельник. Там мы и встретились.
Встречаться с теми, кто знал меня раньше, понятно, я остерегалась и на кладбище ходила не ради этого.
Трудно объяснить, зачем я ходила на кладбище к своей могилке. То есть не к своей, а к могиле Любы Семеновой. Она не была мне ни родственница, ни подруга. Но с тех пор, как мне дали ее имя и я заступила на ее место, во мне появилось странное чувство. Будто я в то же время не я, а она. И почему-то казалось, она лучше, сильнее меня.
Это начало владеть мной ну просто физически. Сначала я еще пробовала сопротивляться. Потом поддалась неведомой силе и как бы поверила, что меня действительно нет. Так, которая ходит по земле, ест, пьет, за больными ухаживает, не я, а она. И поступать мне следует так, как поступала бы Люба. Я отвечаю не за себя - меня уже нет, а за нее. Каждый мой поступок, дурной или хороший, теперь связан с именем Любы Семеновой... Вот умерла простая советская девушка, может быть, еще ничего не свершив, но все, что теперь сделаю я, отнесется к ней. Значит, на моей совести сохранить чистоту и честь ее имени.
Прекратить свою, чтобы продлить жизнь другого, разве не в этом суть многих подвигов? Я осталась жить за другую. Какой же теперь должна быть моя жизнь? Мой характер? А какой была Люба? Такой же, как я, веселой, озорной, спокойной, вдумчивой? Доброй или злой? Спросить-то не у кого. Нельзя мне, Любе Семеновой, спрашивать, какой была я - Люба Семенова.
Уходила к могилке, словно там надеясь найти ответ. Читаю на досточке: "В.Р.Каган". И невольно думаю не о Любе, а о себе. Какой была я, Варенька Каган?..
Все запуталось. Если жизнь есть постоянное сопротивление смерти, то ведь я однажды уже вышла из этой игры, обманув всех и самое смерть. Но почему же не могу решительно распрощаться с тем, что надо забыть? зачем мне думать, какой была Варя Каган?
А забыть не могла. Да тут еще этот случай на кладбище...
Разметая веником снег с могилки, я не заметила, как за моей спиной остановился мельник.
- Каган! - громко произнес он.
Я вздрогнула. Не разгибаясь, из-под руки взглянула и сразу узнала его. Хотя знакомы мы не были, видела я его до этого редко. Знала, работал горбун на мельнице в нашем городе, слыл человеком не то чтобы злым, а как тебе сказать, очень уж строгим. Никому ничего не прощал. Резал, как говорится, правду-матку в глаза.
Многие обижались на него, но в спор не вступали. Отмахивались фразой: "Горбатого могила исправит", в чужом уродстве находили себе оправдание. Мне сталкиваться с ним не доводилось, однако не узнать его я не могла. Тут никто не ошибется. Неужели и он узнал?