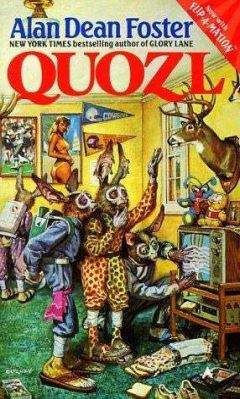Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
Обычно я носила большой и цветастый платок, которым покрывала голову. Но ведь, если набросить его и на плечи — так, чтобы он закрывал желтые звезды на моей груди и спине, тогда я легко могу проскользнуть наружу и выйти из госпиталя прямо под носом у охранника.
Я должна была что-то подобное предпринять, независимо от того, одобрит это моя мать или нет. Если проверяющий явится в то время, когда меня не будет, она, конечно же, прикроет меня, придумает что-нибудь. Да, я знала, что она будет нервничать, пока я не вернусь. Я и сама буду дрожать, но если надо было заплатить эту цену, я готова была платить и взять на себя весь риск.
Чтобы сделать то, что я задумала — выйти из госпиталя, мне понадобились все мои нервы. Я медленно пошла вниз по лестнице, подметая ступени, переходя от одной ступеньки к другой, неторопливо, не спуская в то же самое время глаз с выхода. Охранник у дверей был заспанный старик, не уделявший мне никакого внимания — что ему было за дело до маленькой евреечки, в большом платке подметающей лестницу.
Мне нужно держаться у выхода, стараясь не попадаться ему на глаза, дожидаясь, пока он останется на своем посту один и будет смотреть в другую сторону. Улучив момент, я быстро скинула платок на плечи, прикрыв желтые звезды на одежде и выставив напоказ мои светлые кудри, и просто прошла мимо охранника, вежливо поприветствовав его, как и полагается воспитанной юной литовской девушке, которая возвращается из госпиталя после визита к своему другу-солдату.
Я пошла по мостовой, чувствуя себя восхитительно свободной — впервые за год с лишним; я шла по улице, не в гетто, и на мне не было никакого клейма. Конечно, мне было страшно. Мое ощущение свободы было целиком придуманным. Я это знала. Внезапный порыв ветра мог приподнять мой платок и обнажить желтые звезды, и если бы меня при этом поймали, меня бы избили до полусмерти, а затем застрелили бы. Казнили бы также и мою мать и всех тех еврейских женщин, что работали в госпитале, всех. Я пыталась обо всем этом даже не думать. Я просто заставляла себя идти не спеша, как если бы я распоряжалась временем до конца света, как если бы никто не мог увидеть, что у меня под платком, как будто никакой опасности не существовало и в помине. Я проходила как раз мимо двух солдат. Они окликнули меня по-немецки: «Куда спешишь, малышка?» Я ответила по-литовски: «В лавку, мои господа». Они потеряли ко мне интерес.
Каждый день, когда мы проходили мимо этой лавки, мой голодный желудок будоражил мое воображение картинами того, что было внутри. Я мечтала о том, как я вхожу туда и получаю все, что покажется мне вкусным, и тут же все поглощаю: шоколад, печенье, пирожное, баранки и масло. И вот, наконец, этот миг наступает.
Моя рука, открывавшая дверь, тряслась. В моих мечтах лавка была бесконечной, полной восхитительных деликатесов. На самом деле это была обыкновенная бакалейная лавка. В обычное мирное время она отнюдь не поразила бы меня разнообразием выбора. Сейчас, во время войны, она была особенно убогой. Но для человека, живущего в гетто, где банка с джемом была не сравнима ни с каким сокровищем, эта крохотная бакалейная лавчонка казалась небесным раем. Только от одного ее запаха у меня закружилась голова: пахли буханки хлеба, пахло масло, приправы, овощи, пах сыр, лежавший кругами, и соленья, плававшие в бочке.
Я дотронулась до подарка, оставленного мне Акселем Бенцем, а потом посмотрела на полки с продуктами. Что из того, что я видела, было достаточно миниатюрным, чтобы это можно было спрятать, и вместе с тем достаточно дорогим, чтобы оправдать этот обмен на золотые часы? Пока я не вошла в лавку, я не представляла себе, насколько я голодна.
Лавочник заметил мою нервозность и уставился на меня с подозрением. Я стояла под его взглядом, стараясь выглядеть как можно спокойней, повторяя про себя заранее отрепетированную фразу по-литовски: «У меня нет денег, мой господин, но у меня есть вещь, которую я хотела бы обменять на продукты».
Я сказала эту фразу.
— Что у тебя есть? — спросил лавочник.
— Золотые часы.
— Покажи…
Поколебавшись, я достала часы и показала. Лавочник буквально вырвал их у меня из рук.
— Где ты их стащила?
— Я их не стащила.
— Откуда мне знать? Если полиция прихватит меня с ворованными часами, я пожалею, что родился.
Было не трудно понять, что у него на уме. Это был оплывший лысый человек в грязном переднике. Бегающие глазки полностью выдавали его.
— Тогда верните мне их.
— Наверное, я заберу их и передам в полицию. Ну-ка, признавайся, как они оказались у тебя?
— Мне их подарил мой приятель, солдат, — сказала я. Тут я говорила правду. Следующее заявление правдой уже не было. — Я скажу ему, что вы забрали себе его подарок, и тогда будете объясняться с ним.
Говоря по-литовски, я сделала несколько ошибок, но у меня был немецкий акцент, и это немного поколебало его уверенность. Он обдумывал мои слова минуту или две, пока я, стараясь не обращать на него внимания, рассматривала продукты, выставленные на полках. В конце концов он решил, что сделка стоит риска. Он даст мне немного продуктов за эти часы.
Я была готова к такому повороту. Я знала, что буду обманута так или иначе. Стоимость этих часов, я полагаю, была выше, чем ценность всех продуктов в его лавке, вместе взятых.
Прежде всего, я взяла три толстых белых бублика и положила их на прилавок. Затем я взяла рис и сахар, мед и джем, и сухофрукты — все, что выглядело достаточно дорого, и занимало небольшой объем. Я брала и брала, пока лавочник не сказал: «Ну все. Хватит с тебя».
Я поторговалась немного, заставив его добавить немного сластей. Когда я набрала столько продуктов, сколько вмещали мои потайные карманы, нашитые под одеждой, бакалейщик уже понимал, что я еврейка. Но он не сказал ни слова. Я старалась не думать о часах с сияющим золотым корпусом, о нежном прикосновении, о мягком тиканье. Было просто преступлением обменять подобный подарок на груду еды, которая будет съедена в два-три дня. Подобные подарки нужно хранить вечно. Я вышла из лавки, неся часть продуктов прямо в руках.
Перед тем, как вернуться в госпиталь, я потихоньку обошла здание и нашла место, где никто не мог меня увидеть. Не задумываясь над тем, что меня могут поймать, я достала маленькую баночку меда и бублик. Мне так хотелось есть, что я позабыла обо всем на свете. Я открыла мед и намазала его на бублик. Какое наслаждение! Несмотря на всю опасность, грозившую мне, я медленно жевала, стараясь продлить этот момент как можно дольше. Мое тело росло, оно наливалось и взрослело, мне нужно было много еды. Мне казалось, я ощущаю, как этот хлеб с медом доходит до каждой клеточки моего тела, на котором остались только кожа и кости. «Убегай, — то и дело говорил мне внутренний голос. — Не возвращайся в госпиталь. Беги к лесу. Прочь отсюда!» Но как я могла сделать это? Как могла бросить свою мать? Если бы немцы обнаружили мое исчезновение, наказание для остальных было бы жестоким и страшным.