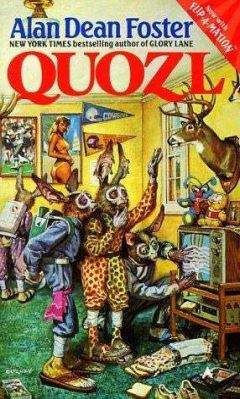Труди Биргер - Завтра не наступит никогда (на завтрашнем пожарище)
Наша семья держалась вместе. Изо всех сил я старалась казаться веселой, я улыбалась, я хотела быть как можно более обаятельной, надеясь, что моя улыбка спасет нас и поможет удержаться вместе. Как бы то ни было, вплоть до большой Детской Акции в 1944 году, нам везло. За исключением Бенно мы выжили и были вместе.
В гетто я дала себе клятву, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать моих близких и вдохнуть в них надежду. Я поклялась, что если переживу эту войну, то всю жизнь буду помогать другим. Идеи переполняли меня. Люди удивлялись, у меня было даже прозвище «Вундеркинд».
Мои мечты были мне поддержкой. Я мечтала о Земле Израиля. Все время. Несмотря на то, что я не получила никакого сионистского образования, я думала только об этом. Каждую ночь я засыпала с мечтою о том, как после войны мы построим на земле Израиля новый дом и он будет полон детьми. Своими мечтаниями я делилась с мамой. Здесь было о чем поговорить. Эти мечты так помогали мне. Они давали мне душевные силы и волю к жизни.
Дети в гетто были особенно уязвимы. Несмотря на то, что я была совсем маленькой и вполне могла сойти за ребенка, я вместе со всеми выходила на работу. Я согласилась стать рабыней, подобно взрослым женщинам, поскольку только работа поддерживала нашу семью. Мы были уверены, что наци не станут убивать тех, кто работает, потому что они вели войну, а война нуждалась в рабочих руках. А самое главное, если вы не работали, вы не получали продовольственных карточек, а без продовольственных карточек вы не могли достать еды — разве что вы могли стащить что-либо или купить на черном рынке.
Я была в полном ужасе в то утро, когда я впервые вышла на работу. К счастью, мы были вместе с матерью. Я стояла рядом с ней в шеренге женщин возле выхода из гетто, построившись по шесть. Охрана следила за нами, когда мы покидали гетто, но не слишком внимательно. Серьезный досмотр происходил после нашего возвращения. Для немцев важно было не допустить, чтобы хоть что-то попадало в гетто. Если у вас находили гнилую картофелину, вас могли застрелить.
Тем не менее, едва покинув гетто, по дороге мы внимательно смотрели по сторонам в надежде найти что-нибудь съедобное. Это мог быть полусгнивший турнепс, валяющийся на поле, или корка хлеба, оброненная кем-то — абсолютно все. Мы хватали это мгновенно, стараясь только, чтобы не заметил конвой. Если мы очень хотели есть, то проглатывали добычу на месте, но в основном мы старались контролировать себя и старались вернуться в гетто не с пустыми руками; то, что это было опасно, делало нас только расторопней и изобретательней. Мы вшили себе потайные карманы, которые на жаргоне назывались малина, в которых и приносили найденную или обмененную еду; все, что было съедобно.
Мои дедушка с бабушкой были слишком стары, чтобы работать; они полностью теперь зависели от нас. Что касается дяди Якоба — несмотря на свой диплом врача он тяжело работал в одном ряду с другими.
Каждый день мы отправлялись в путь длиной три километра, летом и зимой, и, конечно, немцы нисколько не беспокоились, как и во что мы одеты. Мы носили то, что у нас оставалось от одежды, которую мы успели захватить с собой в гетто.
Мы работали каждый день, кроме воскресенья или тех дней, когда нацисты собирали нас для проведения акций. Работа, которую мне приходилось выполнять самое длительное время и которую я запомнила лучше других, заключалась в уборке помещений военного госпиталя для раненых солдат. Этот Kriegslazarett находился в деревне неподалеку от Ковно, в месте, где я никогда до этого не была. Это было трехэтажное каменное здание, и я часто его вспоминаю. Женщины, у которых мы были в подчинении, были вольнонаемными немками, а не капо. В госпитале работало около 30 евреек из гетто, по 10 на каждый этаж. Было неслыханной удачей заполучить эту работу — работать приходилось в помещении, в здании, которое зимой хороню отапливалось, а на моем этаже персонал иногда угощал нас бутербродами. Это была сказочная удача! Два ломтика свежего хлеба с тонким кружком жирной колбасы низшего сорта казались нам неслыханным деликатесом, о котором мы в другое время могли только мечтать. Нам необыкновенно повезло в том, что санитарки и медсестры госпиталя на нашем этаже чувствовали к нам сострадание. Они вполне могли наплевать на нас и не думать о том, голодны мы или нет; более того, они могли даже дразнить нас едой. К счастью, это было не так.
Наша работа в госпитале заключалась в наведении и поддержании чистоты в душевых и туалетах. Самая грязная работа была нашей: плевки, лужи мочи и испражнения нацистов — все это мы должны были убрать, вычистить, отмыть. Но зато после работы мы могли вымыться сами! Иногда, отмывая унитаз или писсуар, я вспоминала свое изнеженное детство. При этом я глядела на свою мать, которая рядом делала то же самое. Когда-то для домашней работы у нас было несколько служанок… Что бы они подумали, если бы смогли увидеть свою бывшую хозяйку, чистящую туалеты по восемь-девять часов в день?
Я не могу сейчас сказать точно, как долго нам с матерью удалось проработать в госпитале; могу сказать только, что длилось это не месяц и не два. Пока мы жили в гетто, течение времени не было отмечено в памяти какими-либо датами или особо запомнившимися событиями. Чувство страха и однообразная унизительная работа изо дня в день, за исключением тех случаев, когда наци производили очередную селекцию среди евреев, отправляя новую партию в лагеря смерти.
В лазарете у нас не было никаких контактов с ранеными, только иногда какой-нибудь солдат случайно кивал нам или давал кусок хлеба. Я не помню, чтобы, глядя на какого-нибудь бедолагу с ампутированными конечностями или обмотанной бинтами головой, я думала: «Ну, слава богу! Вы получили по заслугам… Я мечтаю, чтобы русские всех вас перебили». Но я молилась богу, в которого больше не верила, за то, чтобы немцы проиграли эту войну, и чем скорей, тем лучше.
Конвой только сопровождал нас на работу и обратно и не находился с нами весь день. Это были простые солдаты, непохожие на эсэсовцев, которые хозяйничали в гетто и хладнокровно расстреливали евреев. Я ненавидела эсэсовцев, но точно знала, что не все немцы жестокие убийцы. И, чтобы выжить, необходимо было найти подход к тем, кто по внешнему впечатлению обладал добрым сердцем — такими были, к примеру, нянечки в госпитале, которые во время работы подкармливали нас. Иногда я пыталась поймать взгляд немецкого солдата. И если мне удавалось дружелюбно улыбнуться ему, я могла рассчитывать, что и он бросит мне корку — если сумею ему понравиться. Когда этот прием срабатывал, я подбирала лежащий на земле хлеб и заставляла себя снова улыбаться и вежливо благодарить его на своем прекрасном немецком. Но я никогда не забывала, что этот солдат может точно так же легко пристрелить меня, приди ему такая охота.