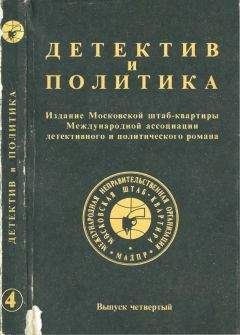Любовь Сирота - Припятский синдром
Ирина с Софьей подходят к группе вахтовиков, кучно сидящих на соседних скамейках. Те, увидев их, не прерывая оживленный разговор, подвинулись, и жестом пригласили сесть в центре компании, где взволнованный парень продолжает говорить:
— Я сам его отвозил…
— Кого? — спрашивает Ирина.
— Я рассказываю про Титова Валерия. Он приехал к нам с Белоярской станции... Все я прошел вместе с ним — с момента его смерти...
— Он умер?!
— Да, в первые дни еще. В Припяти он в больничном морге лежал... Так что не всех тогда в Москву отправляли!.. Я сам документы его оформлял, одевал... переносил два раза: сначала из морга в гроб, потом уже, на месте, когда приехали на Белоярскую, из одного гроба — в другой... Земля ему пухом!.. — тяжело вздохнул рассказчик.
— Слышь, Вань, а расскажи про этого вашего святого, — попросил остроглазый паренек коренастого, курчавого Ивана. — Кстати, он на вахте сейчас?..
— Нет. В понедельник заступает, — ответил тот.
— Вы про Сашка, что ли? — спросил кто-то.
— Да, про него… Этот хлопец — киевлянин. После аварии он сразу же хотел приехать сюда, да не вышло — первую группу уже отправили… А пока формировалась следующая, он пошел и сдал костный мозг, а потом и сам сюда прикатил, в нашу бригаду… Да еще заявление написал с просьбой перечислять половину заработка в фонд Чернобыля… Мы ему говорим: «Ты же мозг сдал, сюда приехал, зачем же ты еще от денег заработанных отказываешься?.. А он: «Вам много хуже, — говорит, — у вас жилья нет...» — рассказывает Иван.
— А сам, знаете, где живет? — вставил остроглазый паренек. — Комнатка у него в Киеве крохотная, сырая — 9 квадратов на четверых... Во как!..
— Поверите, — продолжает Иван, — рядом с ним нам зарплату стыдно будет получать... Глазища такие у него… — вся душа, как слеза, чистая, в них отражается!..
— А вы откуда, хлопцы? — спрашивает Софья у трех брюнетов, стоящих рядом.
— С Армянской мы...
— В командировке здесь?
— Да. На полмесяца нас сюда присылают... Вот и мы, напрымэр, тоже хотым ваших хлопцев поберечь — оны ж тут бэссмэнно!.. Хотым работать на самых грязных местах…
— О, Господи!.. Да что за работа-то?!.. — вдруг взорвался маленький худой мужичок. — Почти каждые пять минут новый приказ, противоположный предыдущему...
— А в первые дни, помните?! — поддержал его другой вахтовик. — Целая смена у развороченного реактора полдня без толку простояла, пока Брюханов не выматерил Фомина, чтоб убирал людей, коль не знает, что нужно делать…
— Никто ничего не знал тогда!.. — сказал кто-то.
— А сейчас знают, что ли?!. Головотяпство одно!.. Вот именно… — зашумели вахтовики.
— Пропустите! — прорывается к подругам их утренний знакомец-врач с футболкой в руках, и, расстелив сплошь исписанную разноцветными фломастерами футболку на скамье перед ними, протягивает фломастер. — Автографы, пожалуйста!.. Здесь «письмена» только наших...
Расписавшись на его реликвии, Ирина продолжает напряженно вглядывается в лица людей. В сгущающихся сумерках, освященные светом юпитеров и фонарей, они еще контрастнее, чем в Полесском, выражают два полярных состояния: глубокую подавленность или чрезмерную бравурность. Вдруг взгляд Ирины спотыкается о знакомое лицо, выражение которого заставляет ее содрогнуться. Этот молодой человек в Припяти был инициативным и веселым завсегдатаем дворцовского клуба молодых специалистов, а сейчас глаза его были пустынны, да так, что Ирине стало не по себе.
Перехватив ее взгляд, врач-вахтовик объясняет:
— Кстати я, как психиатр, обратил внимание, что не только экстремальная ситуация и радиация, воздействуют здесь на людей… Вы же знаете, что они до сих пор сбрасывают с вертолетов в реактор мешки со свинцом и песком… А я помню еще с института, что римская знать в свое время деградировала из-за воздействия на психику именно свинца, из которого у них были сделаны водопроводные трубы…
В это время из концертных колонок зазвучали фанфары и раздался голос Василия:
— Добрый всем вечер!.. Итак, мы уже традиционно начинаем нашу программу с полюбившихся вами фильмов и слайдов о нашей Припяти…
Свет на площадке медленно гаснет, и на экране мелькают кадры еще не покинутого города, сопровождаемые песней группы «Диалог»:
Бьет по глазам хрусталь лучом,
ковры развешаны по стенам…
Мы часто помним что почем
и забываем о бесценном.
Припев:
Поймем потом, поймем потом,
немало побродив по свету,
как дорого бывает то,
чему цены по счастью нету.
Поймем потом, поймем потом…
В глазах вахтовиков, сидящих рядом с Ириной, заблестели слезы.
Бежит куда-то вдаль река,
пленяют звезды высотою…
Про дождь, про снег, про облака
никто не спросит: сколько стоит?
Припев…
Как хорошо, что к пенью птиц,
к траве и к этим росам вешним,
к заре и к отблескам зарниц
ярлык с ценою не привешен.
Припев…
Приемлем все, что в жизни есть,
смеемся, радуемся, плачем…
А как же совесть? Как же честь?
Неужто цену им назначим?
Припев:
Поймем потом, поймем потом,
немало побродив по свету,
как дорого бывает то,
чему цены по счастью нету.
Поймем потом, поймем потом…
…«Поймем потом, поймем потом… » — еще звучит в душе Ирины эта песня, а микроавтобус уже мчит их ранним утром по дороге в Припять.
— Коля, какой ты молоток, что вывез свои фильмы из Припяти, — вспомнив вечерние кадры, басит Софья.
— У меня и послеаварийные есть, — тихо, вполголоса говорит НикНик. — Жаль только, что мало удалось припрятать, — вздыхает он.
— От кого, — удивляется Ирина.
— От «органов глубинного бурения», — тоже почти шепчет Василий, заговорщицки прищурившись. — Они еще в первые дни в Полесском у него почти все выгребли…
Мертвые села провожают автобус темными, изредка заколоченными окнами домов, опустевшими гнездами аистов. Горячее солнце поднимается над Полесьем. Земля и деревья здесь очень сухи.
— Дожди не пускают, — поясняет НикНик.
— Как это? — спрашивает Софья.
— Тучи расстреливают и самолетами разбивают...
Под Чистогаловкой друзья видят в поле одиноко пасущуюся корову и старика, сидящего в пожухлой траве рядом с нею. Не смог, видать, дед расстаться со своей кормилицей — остался с нею почти у самого жерла грозной, невидимой беды. И сидит он в открытом поле, никого не боясь. Должно быть, гнать его отсюда уже устали.