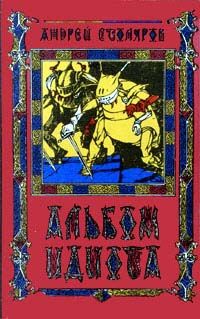Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
– Кто может бесплатно смотреть каждый день?
Екатерина Дмитриевна подумала:
– Пожарник.
Я возмечтал стать пожарником в театре. Через какое-то время бабушка расписала, какого ужасного обгорелого пожарника привезли к Склифосовскому: жалко, молоденький.
Екатерина Дмитриевна, видя мою любовь к красивым вещам, рассказала, какие сокровища хранятся у бутафора.
У Немировича ставили Тихий Дон и Поднятую целину Держинского (тогда писали без з). Екатерина Дмитриевна в лицах изображала, как Григорий прячется в стоге сена, а казаки его ищут и тычут в стог саблями. Пела, как с одной стороны:
а с другой речитативом (теперь нельзя без прононса Поль Робсона):
Надо думать, из-за Екатерины Дмитриевны и опер кухня из года в год дебатировала:
– Шолохов не сам написал…
Возражений не было, всем хотелось, чтоб не сам, но кому интересно прикрыть занимательные пересуды?
В отсутствие Лени Екатерина Дмитриевна приглашала меня глядеть французские книги:
– Руки у тебя чистые?
– Чистые, только что хлеб ел.
– Пойди на кухню и вымой мылом!
Я соображал, что это она не доверяет хлебу: она всегда обжигала на газе батоны из булочной:
– Продавщица за сопливый нос схватится, а потом той же рукой хлеб подаст.
У себя она показывала мне большие тома, вроде энциклопедии, и говорила, что самые красивые города на свете не Париж и Ленинград, а Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро.
Как-то она переодевалась при мне, я увидел ее огромные груди и обалдело спросил, что это.
– Это у меня два сердца, меня нельзя убить, – сказала она и сглазилась.
На гастролях на Волге она упала с пароходного трапа и умерла от перелома основания черепа.
Алексей Семенович самолетом отвез ее в Курск – в осужденном кухней дорогом цинковом гробу.
Через несколько лет он женился на даме с неслучайной фамилией Бромлей.
В предвоенном году Алексей Семенович меня напугал. Он пришел советоваться с папой, как заполнить анкету. Я подглядывал через руку и в графе партийность увидел б/п. Я знал, что б – бывший, и что за это бывает. Папа не вдруг меня успокоил.
Алексей Семенович меня игнорировал. Только раз, когда мне было пять лет, усадил меня на свой письменный стол, дал в руки коробку из-под Красного мака и сделал феноменальный снимок.
Да еще во время бомбежек Лондона показал мне нижнюю часть картинки из Дейли Уоркера: параллельно друг другу трубы, трубы, трубы:
– Угадай, что это?
Я угадал, но из вежливости не сказал. Он вручил мне фотографию огромного пожара с параллельными пожарниками и шлангами.
Не от бабушки/мамы, а от Алексея Семеновича я впервые услышал домовой, не понял, послышалось: дымовой.
Мама спросила, нет ли у него Гекльберри Финна.
– Есть по-укра́ински, – отказал он.
С годами все чаще приходилось – через не могу – спрашивать его, что это за марка, монета, медаль. Он постепенно менял гнев на милость.
В сорок седьмом консультировал, какой приемник купить. Остался доволен, что мы с папой принесли из комиссионки Телефункен. Толк он знал: перед войной выпустил шестиязычный словарь по радиотехнике и добыл восхитительный 6-H-I, который отобрали в сорок первом, когда отбирали у всех. На 6-H-I в довоенном эфире все было, как Москва – чуть погромче, чуть потише. Когда я слышал по радио иностранную речь, мне всегда казалось: ругаются.
После войны Алексей Семенович купил ВЭФ самого первого выпуска, с круглой шкалой. Он растолковывал мне, что надо слушать, чтобы скорей понимать по-английски. Дал мне недели на две книгу американских скаутов.
Учил меня фотографии. Объяснил, что лучший ФЭД – довоенный, от такой-то тысячи до такой. Предупредил, что снимать деревья в веселом инее – пошлость. Критиковал мои первые снимки, демонстрировал свои, восхитительные.
Зимой он ходил под Москвой на лыжах, летом – в длинные пешие путешествия. Был на Куликовом поле. Сфотографировал похожего на Суворова смотрителя монумента:
– Поразительный человек!
Из фетовских мест привез вирированные, как старинные, впрямь фетовские пейзажи и потемневший кирпич с круглым клеймом ШЕНШИНЪ. Сокрушался, что старики помнят барина и понятия не имеют о поэте.
Алексей Семенович посвятил меня в украинскую поэзию. Ранний Тычина, сгинувший Дмитро Загул, дореволюционный Рыльский, из снисхождения к моему футуризму – Михайль Семенко, двухтомная антология года тридцатого, без переплета, зато с портретами.
Я увлекался Хлебниковым; Алексей Семенович показал мне тоненькую книжку: учитель петрозаводской гимназии Мартынов утверждал, что речь человека состоит из дышевы́х чу́ев.
– Дышевы́е чу́и! Подумай только, это же девяностые годы!..
В начале двадцатых Алексей Семенович учился в Брюсовском институте, вспоминал, что Брюсов в каждом студенте видел врага и соперника.
Алексей Семенович требовал, чтобы я читал классиков как современников – критически и пристрастно:
– Ты знаешь, что Погасло дневное светило – переделка из Байрона? Ты заметил, что Шуми, шуми, послушное ветрило – абсурд? Если парус наполнен ветром, он не шумит.
Алексей Семенович дал мне урок политграмоты:
– Марксизм занимает такое же место в системе философии, как твои башмаки – в системе музыкальных инструментов.
Я приносил Алексею Семеновичу свои творения. Он важно указывал на несообразности, корил за неестественность тона, стыдил за неряшливость в русском языке:
– Ты послушай, как говорит твоя мама!
Часто из-за письменного стола он вылетал на кухню и требовал, чтобы мама, не задумываясь, прочла написанное на бумажке слово. В благодарность рассказал американский анекдот:
– В Нью-Йорке Рабинович меняет фамилию на Киркпатрик. Через несколько дней меняет фамилию на Мак-Магон. – Рабинович, зачем вы это делаете? – А, меня спросят, мистер МакМагон, какая у вас была фамилия раньше? И я скажу им: Киркпатрик.
После сессии ВАСХНИЛ он схватил папу за пуговицу и шепотом:
– Я ничего не понимаю, Лысенко – это же ламаркизм!
Сталинский марксизм в языкознании лишил его верной докторской:
– Нам приказывали основываться на Марре. Теперь у нас отняли основу, а взамен ничего не дали…
С папой Алексей Семенович советовался по практическим, житейским, служебным делам и торжественно провозглашал:
– Я восхищаюсь Яковом Артемьевичем! Ясность его взгляда на мир достойна удивления.
1977
отец
Если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца. Бабушка до конца дней думала: мезальянс. В богатом доме Трубниковых навидалась красивой жизни, мечтала, чтобы дочери барынями никогда не работали, – так оно и случилось, только не дай Бог как.
Бабушка напевала:
При мне говорила: – Скот. Жену привел, как корову купил.
Отец был: Деревня серая. Нечуткий. Нетонкий. Невнимательный. Негалантный. И работал где – в Тимирязевке: