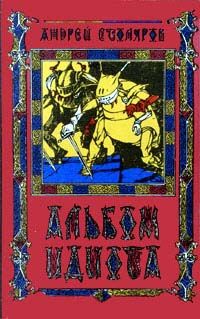Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
С другой стороны, куда маме было деваться? В проходной комнате – после уплотнения остались две – жила бабушка с дедом, в дальней – мама и Вера.
– Я никого к себе пригласить не могла. Кто придет – Верка назло разляжется лицом к стенке, ни за что не уйдет. У Якова хоть маленькая, да была…
Маленькая, но со всеми удобствами – центральное отопление, газ, ванна, позже – телефон, и – самое главное – рядом с Большой Екатерининской, с бабушкой.
Когда мама перебралась на Капельский, дед с бабкой не спали ночь: отец был простой, но скрытный – кто его разберет? Может, подкоммунивает, может, свой в доску.
Жизнь на Капельском не заладилась с первого дня: из деревни нагрянула отцова мать Ксения Кирилловна.
– Две недели на голове сидела. Будто ничего не понимает, дубина стоеросовая. Прямʼ не знаю, как надоела. Да еще-ещʼ косо глядит: барыню привел. Он тоже хорош – хоть бы сказал. Убиралась бы к Ивану с Авдотьей – он тоже сын. У него две комнаты. А то летом в Удельной – распожалуйста, только сиди с Сережкой. А зимой в Москве – так фиг жареный!
И в Удельной маму почли барыней. Брат Иван – агроном, деревенский, Авдотья – из учительской семинарии – тоже деревенская. Оба любили землю и рылись в саду дотемна. Мама – городская, земле не кланялась: не было ни желания, ни необходимости.
До – в одной половине дачи жили, другую сдавали. Мама была против:
– Ни за что! Все слышно, чуть не все видно.
Иван, человек угрюмый, по привычке отошел в сторону. Авдотья – нрава лихого – так, чтобы слышали:
– Знаешь, где Яков ее подцепил? На Цветном бульваре.
– Откуда ты знаешь?
– Это ты один, дурак, ничего не знаешь.
Мама нажаловалась отцу. Отношения между братьями натянулись.
Так это было или не так – не знаю.
В таком соседстве на полупустом участке, едва огороженном слегами, мама просиживала со мной с мая до октября-ноября. Боялась, когда забредали коровы, пуще того – цыгане.
За стенкой Сереня – Ксении Кирилловне:
– Бабушкʼ, а бабушкʼ, хочешь я до станции голый дойду?
С соседними дачами – Тихоновыми, Богословскими – мама ладила плохо: в глаза лебезила, за глаза – не считала людьми. Московских подруг не приглашала. Для облегчения жизни пустила Матенну, мою няню. Бабушка заявлялась в любую погоду: плыть, да быть. Обязательно привозила вкусное и дорогое – икру, лососину, осетрину, семгу, ветчину – пусть по сто – сто пятьдесят грамм.
Отцу вменялось в вину, что он не носил маме в роддом из торгсина. Время было такое, что, когда бабушка передала маме туда апельсин, палата сразу враждебно:
– Буржуйка…
В отпуск отец возился в саду, а так – ночевал с субботы на воскресенье, привозил крупу, сахар: в Удельной, в поспо было с наценкой.
На базар, в магазин за провизией – как и по всем делам – обычно ходил отец. Мама ленилась, оправдывалась:
– Не я зарабатываю…
Отец зарабатывал скромно, но больше, чем дед вместе с бабкой.
Как-то мама, соскучась, бросила меня на Матенну и покатила в Москву.
– Пришла я на Капельский – у него щеки лоснятся, он сосиську ест, а я в Удельной на одной окрошке сижу…
Разница в воспитании: отец мог смолотить сковородку картошки, мама брезгливо:
– Хадось какая! Видеть эту картошку не могу!
Отец удивленно поднимал брови: едва кончался второй, самый страшный голод.
Разносолов, деликатесов, снадобий, телячьих нежностей не признавал, считал, что надо есть досыта, калорийное и с витаминами; доцент кафедры кормления.
Для баловства – по воскресеньям к чаю – сам жарил хлеб.
Консервы – необходимость: мясные – бывали и в Удельной. Шпроты – роскошь – покупались перед войной раз или два. Сгущенное молоко – чайную ложечку – дала попробовать Екатерина Дмитриевна. Потрясло.
Восхищала любительская колбаса – два раза в месяц по дням получки, тонко нарезанная в гастрономе – двести граммов. На колбасу отец иногда клал сыр – получался двухэтажный бутерброд, как на Первой Мещанской – двухэтажный троллейбус.
Летом арбузов, дынь, персиков, абрикосов не покупали: хватает своих фруктов-ягод.
Но когда в первый раз после стольких лет зимой выкинули – из Испании – апельсины, отец принес их кошелку (сетки, авоськи еще не возникли) – да еще отстоял в очереди.
Мама, считалось, прекрасно готовила. Услышав выражение национальное блюдо, я решил, что русские национальные блюда – картофельный суп со сметаной и котлеты с кашей или пюре.
Отцу нравилось именно это; вечером, после работы, просил добавки и сам подкладывал. Мне тоже нравилось. Жареного мяса мне никогда не давали: не ужуешь. Селедка непонятно почему казалась мне едой неприличной – может быть, из-за запаха на ножах-вилках. Отец рыбного ничего не ел: кости.
Отец копил деньги. Хотел нашу комнату обменять на две с приплатой. Мама на словах соглашалась, но каждое предложение отвергала: боялась хоть чуть подальше отъехать от бабушки.
Отец ворчал, что приезжим дают отдельные квартиры, а коренным москвичам…
Отдельных квартир я не видел – трубниковская ошеломила, как прихоть природы. Люди не жили в своих квартирах, а проживали – кто свободнее, кто теснее – на жилплощади в коммуналках. Наше существование втроем на тринадцати метрах с двумя огромными окнами и скошенным углом не казалось мне ненормальным. Отцу – казалось; а я так привык к разговорам комната на две комнаты, что меню на стеклянной двери столовой прочел как меняю.
Как я любил маму! В Удельной первое утреннее движение – к ней (ее топчан стоял в папиной комнате, но спала она на другом – в моей). Всех прекрасней, родней, утешительней. Лучше всех понимает.
А отец…
Отец был в академии с утра до ночи. Меня присвоили и баловали бабушка/мама. Видя, что получается, отец вздыхал:
– Лень раньше нас родилась.
Он бывал бит прежде, чем начинал возражать, и умывал руки:
– Ваш ребенок, вы и воспитывайте.
Мама на слово говорила ему десять. Он возмущался:
– Да дай ты слово сказать! – а когда мешала работать, взывал: – Иди в свое стойло!
Он был оскорбительно простой, здоровенный, ни чорта его не берет, за все довоенное время болел один раз – малярией, молча и неинтересно.
Маме постоянно недомогалось, она с увлечением рассказывала бабушке и мне, где что у нее кольнуло, ёкнуло, то́кнуло, подкатилось. Недомогание я счел хорошим тоном и, подражая, жаловался на болящее и придуманное. Отец этого не любил:
– Жертва вечерняя.
Отец с грехом пополам – для кандидатского минимума – осилил Гальперина. В анкетах писал: английский, читаю со словарем. Мама участвовала в моем увлечении Францией и учила французскому и немецкому.
Отец знал: Однажды в студеную зимнюю пору и:
Мама – Бальмонта и Северянина. Говорила: эстетные. Под лаковым гимназическим переплетиком я читал:
и в обрезе последней, переплетной страницы – клязьма, приведенная Пушкиным:
В альбомчик я внес свое, крупными буквами: