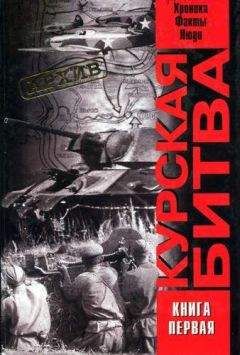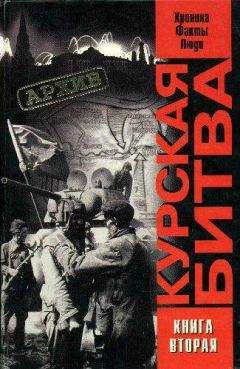Ирина Кнорринг - Золотые миры.Избранное
25. IV. 1927
В это время она была готова с полной искренностью, уже будучи больной, писать на больничной койке:
И пусть меня возьмут в круговорот
Глухие, нарастающие грозы.
Я не боюсь, что счастье отцветет —
На столике больничном — темной розой.
И, наконец, у нее появляется как будто подлинная «Воля к жизни»:
В низких тучах, нависших уныло,
В нежных думцах веселой любви,
В нарастанье потерянной силы
Мне послышалось слово: живи!
И как крик у разверзнутой бездны,
Как раскаты звериной грозы,
Как бодрящий напев Марсельезы —
Этот бешеный к жизни призыв.
Я теперь поняла: не недели, —
Месяцы потерялись в бреду…
И еще поняла, что дойду
К настоящей, единственной цели.
Что, как прежде, горят маяки
Не обманным и радостным светом,
И за ночью последней тоски
Есть звериная радость рассвета.
7. VI. 1927
В одном из своих прекрасных стихотворений Ирина установила свой выбор словами глубокого чувства.
***
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.
Анна Ахматова
Ночью слишком натянуты нервы.
Проступают виденья и лица.
Дорогой, отчего ты не первый
В этой смутной, немой веренице?
Слишком много рассказано было,
Много брошено ласки на ветер.
Был ты первый, второй или третий —
Я не знаю. Не помню. Забыла.
Много нежных растратила слов я,
Притворяясь влюбленной и нежной,
Называя печаль неутешной,
Называя влюбленность — любовью.
Отчего же тебя не нашла я
В эти годы тревоги и муки?
Взял бы ты мои слабые руки
И сказал мне: родная…
Ты один, на других не похожий —
Не уйдешь, не отдашь, не обманешь.
Что ж сказать тебе, милому, что же,
Если все уже сказано раньше?
Ты не первый, так будь же последним!
Пусть теперь перестанут мне сниться
Эти — слишком любимые — тени,
Эти — памятью стертые лица.
16. II. 1927
После этого апофеоза любовного чувства я приведу стихи, в которых Ирина, в ее точной изобразительной манере, выразила другую сторону этой муки-любви, в значительной степени определявших причину ее будущих переживаний.
Чуть проступают фонари из тьмы,
Глухие улицы, сдавили стены.
Прохожие. Автобусы. И мы —
Два неврастеника — над черной Сеной.
Я слушала взволнованную речь,
В воротнике лицо пугливо пряча.
И только по дрожанью нервных плеч
Ты угадал, что я бессильно плачу.
В гранит плескала мутная вода.
В ней огонек, как золотые нити.
Направо — бледный камень Нотр-Дам,
Откуда нас благословлял Мыслитель.
Ты побледнел, и постарел ты, — вот
За два часа. Глаза совсем больные.
А у меня кроваво-красный рот
Сломала безобразно истерия.
Стояли мы, не поднимая глаз,
Бессильные и жалкие, как дети.
И уж ничто не разделяло нас —
Двух неврастеников — ничто на свете.
3. III.1927
Через несколько дней после появления этого стихотворения Юрий пришел к нам с официальным признанием. Мы тогда жили на ул. Курноль. Ирины дома не было. Как я уже говорил, мы Юрия полюбили, видели их сближение и, в сущности, давно ждали этого визита. Он очень волновался, и начал говорить несколько путано, внося кое-какие рассуждения, мало идущие к такому моменту — видимо, он готовился к этому выступлению. Но скоро эти рациональные рассуждения уступили место искреннему выражению подлинных чувств… Мы обнялись… Он скоро ушел, а когда пришла Ирина (она уже все знала!), то застала нас обоих, по ее словам, — «счастливыми и нежными. Мамочка начинает говорить о Юрии, о том, как он ей нравится, какой он славный, умный, тонкий и т. д. Папа Коля что-то шутит, но вижу, что и он очень взволнован. А сама я — даже не ждала — осталась совсем спокойной. Испытывала что-то вроде неловкости — прижалась к мамочке, и только улыбалась. А она говорила о том, что она счастлива. Должно быть, все ее страхи и сомнения относительно моей любви прошли. Господи!..»
Между прочим, можно отметить, что эти «любовные» дни Ирины проходили в атмосфере экзаменов. Институт, по ее собственному признанию, занимал в ее жизни того периода тоже не последнюю роль. Мне вообще очень хотелось, чтобы Ирина получила какое-либо высшее образование, а не ограничилась бы какими-нибудь курсами по прикладной специальности. В нас с женой еще крепко держалась эта интеллигентская тяга к высшему образованию общего характера. Я всегда вспоминал с большою признательностью свои университетские годы, а жена — время, проведенное на Высших курсах. Этих переживаний молодости мы желали и Ирине. Может быть, Франко-Русский Институт в этом отношении немного давал Ирине (в основном, это был Институт юридических и общественных наук, правда, там читалась и история), но здесь огромное значение имела наличность известных ученых. Для Ирины с ее недостаточной, по существу, подготовкой было несколько трудно слушать лекции и особенно сдавать экзамены, и я очень боялся за нее в этом отношении. Но она, по своей привязчивой натуре, скоро вошла и в институтскую студенческую жизнь и, в общем, сдавала экзамены, как средний студент. Как часто бывает, студенты во время подготовки к экзаменам глубже вникают в предмет — это случалось и с Ириной. Она готовилась добросовестно, поскольку это было в ее возможностях, обычно занимаясь с кем-нибудь. «Экзамены — редкая и большая вещь, — записывает она в дневник, — а успех, конечно, сильно поднял настроение, может быть даже вскружил голову, во всяком случае, не удивительно, что я о нем столько говорю и пишу. Но я поймала себя на другом: меня опять потянуло к Институту, и даже студенты, которые так раздражали меня в последнее время, стали опять как-то ближе. Мне даже захотелось как-нибудь на той неделе пойти на экзамен, посмотреть, как он проходит, как сдает такой-то, такая-то…» Это признание с ее стороны вызывает даже ревность по отношению к своему жениху. Во всяком случае, свою студенческую жизнь, как все в своей жизни, Ирина воспринимала не без трагических настроений, разрушительно влиявших на ее нервы…