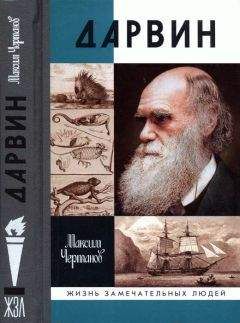Максим Чертанов - Хемингуэй
Роберто Эррера о первых месяцах 1947 года: «Папа часами простаивал у пишущей машинки. Мы сидели на веранде и не слышали ее стука. Потом он отходил, брал чистый лист бумаги и карандаш, садился за стол, подолгу теребил правое ухо, ворошил своей огромной пятерней короткие волосы. Лежа на кровати, до обеда перелистывал старые европейские и американские журналы». Менокаль и Вильяреаль свидетельствуют, что хозяин «Ла Вихии» был «сам не свой», жаловался, что не идет роман (какой? Одним говорил, что о войне, другим — о «садах», имея в виду, вероятно, «Сады Эдема»), срывался, доктор Эррера заговорил о Марте — ответил бешеными ругательствами; с Мэри, по словам Вильяреаля, скандалили ежедневно. А в апреле случилось очередное несчастье.
Младшие сыновья прибыли на весенние каникулы, через неделю Грегори уехал в школу, а Патрик остался готовиться к экзаменам в Гарвард. 12-го он в Гаване сдавал экзамен, провалился, но был в нормальном настроении, а утром 14-го впал в беспричинное буйство, была высокая температура, головные боли. Мальчика насильно уложили в постель, около него дежурили братья Эррера, Вильяреаль, Хуан Дунабейтиа, отец в отчаянии телеграфировал Полине (Мэри срочно вызвали в Чикаго — у ее отца был рак). Выяснилось, что неделю назад, когда оба сына гостили у матери, они попали в автомобильную аварию (за рулем был Грегори, хотя по возрасту не имел прав) и Патрик ударился головой. Полина приехала, не ссорились, горе сблизило. Патрик отказывался есть, не узнавал окружающих. Пригласили на консилиум трех местных врачей, один из них, Лавальета, сказал, что мальчик умрет.
«Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек — рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиограмму и говорит:
— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том.
Он дал рассыльному шиллинг. Но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол.
— Мне чаевых не надо, мистер Том, — сказал он и ушел.
Он прочитал телеграмму. Потом положил ее в карман, вышел на веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму и прочитал ее еще раз.
ВАШИ СЫНОВЬЯ ДЭВИД И ЭНДРЮ ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ В АВТОМОБИЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД БИАРРИЦЕМ. ДО ВАШЕГО ПРИЕЗДА ВСЕ ХЛОПОТЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ПРИМИТЕ НАШЕ ГЛУБОЧАЙШЕЕ СОЧУВСТВИЕ. <…>
Эдди сел рядом с ним и сказал:
— Мать твою. Как такое могло случиться, Том?
— Не знаю, — сказал Томас Хадсон. — Наверно, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил.
— Уж наверно, не Дэви вел машину.
— Наверно, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения.
Томас Хадсон смотрел на плоскую синеву моря и на густо синеющий Гольфстрим. Солнце стояло низко и скоро должно было зайти за облака. <…>
— Как-нибудь справитесь, — сказал Эдди.
— Конечно. А когда я не справлялся?
— Ах, мать твою! — сказал Эдди. — И какого хрена нашего Дэви убило?
— Не надо, Эдди, — сказал Томас Хадсон. — Этого нам не дано знать.
— Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок.
— Как сумеем, так и сыграем, — сказал Томас Хадсон».
Читать этот «мужественный» фрагмент «Островов» неприятно — все-таки речь идет о смерти близких героя, а не щенков, — но Хадсон, герой, лишь притворяется, что не чувствует боли: «Он думал, что на пароходе сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его может только смерть, а все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое, скорее всего, не настоящее».
Патрик не умер, но его состояние ухудшалось. Определили «буйное помешательство», хотели везти в больницу, отец не позволил, стали лечить дома, но лечение, как и диагноз, было неквалифицированным. По рассказам очевидцев, Хемингуэй подтянулся, мало пил, вел дневник о болезни сына (этот дневник не обнаружен), все время проводил рядом с комнатой Патрика. 18 мая вернулась Мэри и, к изумлению мужа, подружилась с Полиной. 1 июня Патрик начал есть — отец на радостях зачем-то выкрасил волосы в рыжий цвет. Дышать в доме стало полегче. Но к сыну отец не входил: как утверждают домашние, Патрик отказывался его видеть. Эррера говорил, что Патрику стало плохо не потому, что он ушиб голову, а «после бурной стычки с отцом». Шофер Лопес косвенно подтверждает эту версию: Патрик «не стеснялся говорить об отце то, что думал». Грегори: «Мой брат Патрик, чудесный ребенок, из которого действительно могло что-то выйти, был абсолютно разрушен моим отцом, не позволившим ему ничего добиться».
Полина несколько раз приезжала и уезжала, появлялись гости. Приехал Грегори, отец обвинил его в болезни брата, потом помирились. Был Лестер — ссора и полный разрыв. Вильяреаль: «Младший брат был совсем не похож на Папу. Ему легко жилось, всегда везло. Он прожигал жизнь, не хотел работать, постоянно что-нибудь клянчил. Мне кажется, стал поучать Папу, как надо жить. Я видел, как Папа его ударил». Потом пошли хорошие гости — Джордж Браун из Нью-Йорка, Тейлор Уильямс из Сан-Вэлли. «Подвешенное» состояние длилось все лето; Патрика не лечили, только стерегли.
Параллельно шли неприятные «разборки» с Фолкнером. Заочные отношения между коллегами складывались неоднозначно. Фолкнер называл Хемингуэя своим любимым американским автором, тот также много раз отзывался о коллеге восторженно и, если верить Сартру, ставил его выше себя, однако в «Смерти после полудня» писал о нем пренебрежительно. Знакомым говорил, что талант Фолкнера огромен («мне бы такой»), но недисциплинирован, его надо «подсушить», взять в рамки. В апреле 1947-го Фолкнер, читая лекцию студенческому кружку в университете Миссисипи, поставил Хемингуэя в ряду современных американских писателей лишь на четвертое место после Дос Пассоса, Эрскина Колдуэлла и Томаса Вулфа; его слова просочились в нью-йоркские газеты.
Русскоязычный читатель с такой иерархией вряд ли согласится: можно не любить Хемингуэя, ставить его гораздо ниже Фицджеральда и Фолкнера, но сказать, что он пишет хуже, чем занудные Колдуэлл или Дос Пассос, при всем уважении к их моральным качествам, мог только американец. Но Хемингуэй обиделся не за четвертое место. Фолкнер на лекции сказал, что у него «недостает смелости, он никогда не поднимался выше деталей, никогда не использовал слова, которые читателю пришлось бы искать в словарях». Нечто похожее написал Солженицын в «Заметках между делом»: «Непонятно, почему писатель должен (как это в хемингуэевском методе) ограничивать себя только тем, что видит и слышит посторонний наблюдатель, то есть отказаться от духовного зрения, от прямого (не подтвержденного органами чувств) заглядывания в душевный мир и мысли персонажей (у Хемингуэя это разрешается, но почему-то только по отношению к главному). Ведь, берясь за перо, писатель уже объявил себя судьей внутреннего мира. Зачем же ему отказываться от духовного зрения? Без него никто не дал (и не даст) подводной части, девяти десятых айсберга».