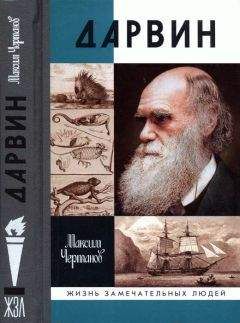Максим Чертанов - Хемингуэй
Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и посмотреть, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что по-русски я знаю лишь четыре слова: „да“, „нет“, „говно“ и „нельзя“, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении „кочерыжек“ (так мы прозвали немцев) на другой работе. Два года я провел в море на тяжелых заданиях. Потом я уехал в Англию, оттуда вылетел в Нормандию на самолете королевских ВВС, был свидетелем высадки в Нормандии, а после этого до конца войны оставался в 4-й пехотной дивизии. В королевских ВВС провел время хорошо, но бесполезно. А в 4-й дивизии и в 22-м полку старался быть полезным, потому что знаю французский язык и страну, что позволило мне работать связным между нашими передовыми частями и отрядами маки. (Тут следует длинный рассказ о подлеце Мальро. — М. Ч.) <…>
Но, черт возьми, почему же Вы не можете приехать?! Есть ли переводы Ваших стихов и дневников на английский язык? Если есть, пришлите, мне очень хочется их прочесть. Потому что я понимаю Вас, а Вы понимаете меня. Мир наконец дошел до того, что писатели могут понять друг друга. Вокруг много говна (боюсь допустить ошибку в этом слове), но по-прежнему есть немало хороших и умных людей, и если мы поймем друг друга, то не позволим, вопреки всем козням Черчиллей, развязать войну. Простите, что говорю о политике. Я знаю, что когда я начинаю говорить о политике, Вы можете счесть меня дураком. Но я знаю, что ничто не может помешать дружбе между нашими странами, и эта дружба может быть столь же тесной, как у нас с Канадой, а если не будет, то этому не найти потом ни экономического, ни морального оправдания. Так или иначе, берегите себя и пишите. Я знаю, как нас всех затягивает журналистика. Но помните, что это грех против Святого Духа, если не пишешь так, как должно, и это не принесет пользы…»
Под конец Хемингуэй передавал привет Кашкину и спрашивал, переведен ли на русский язык «Колокол». Симонов ответил из Бостона: хотя «Колокол» не издается в СССР, он лично дважды видел рукописные переводы и это одна «из трех-четырех книг», которые ему по-настоящему нравятся, рассказывал о Кашкине, выражал надежду на встречу. Но она так и не состоялась.
Симонова принято называть «советским Хемингуэем» и считать, что он Хемингуэю подражал, но недотянул до образца. В молодости — да, но если сравнить позднего Симонова, автора «Живых и мертвых», с поздним Хемингуэем, да хотя бы с «Колоколом», то это еще вопрос, кто до кого недотянул. У Симонова люди воюют — как живут («война — это очень ускоренная жизнь»), у Хемингуэя живут — как воюют; у Симонова — строят, окапываются, устраиваются, у Хемингуэя — взрывают, разрушают, совершают подвиги. У Симонова герой спасает ребенка, у Хемингуэя — убивает друга, и об убитом Кашкине ему нечего вспомнить, кроме того, что от того «пахло страхом» и хорошо, что он его убил! Попробуем перечесть «Живых и мертвых» и «Колокол» параллельно и ощутим, что они находятся на разных берегах, один из которых называется жизнь, а другой — Голливуд…
* * *В июне Мэри сообщила о беременности; надеялись на рождение дочери. Провести осень решили в Кетчуме, где уже жили Патрик и Грегори. 19 августа, когда проезжали город Каспер, жене стало плохо: беременность оказалась внематочной. В больнице не оказалось главного хирурга (он был на рыбалке), молодой врач сказал, что возможен летальный исход. По настоянию мужа (Папоров: «Эрнест схватил лежавший на столе ланцет, приставил его к горлу медика…») сделали переливание крови, дождались нормального врача, женщину спасли, но последняя надежда иметь дочку умерла. Муж неотлучно провел в больнице неделю, как всегда при серьезных событиях, пил мало, вел себя умно, мужественно и деловито; Мэри справедливо сказала, что он — «человек, которого хорошо иметь рядом во время несчастья». Вызвал сыновей, те приехали, вся семья оставалась в Каспере до выписки Мэри. 13 сентября, проводив Грегори в школу (Патрик из-за болезни пропускал семестр), отправились в Кетчум и пробыли там два месяца (жили на сей раз не в отеле «Сан-Вэлли», а в кетчумской гостинице). Приезжал Джон, был Гари Купер с женой, гостил также восторгавшийся Хемингуэем молодой сценарист Питер Виртел, который в войну служил моряком, а потом агентом УСС: кажется, Папа должен такого юношу обожать, но, по рассказам Виртела, его кумир относился к нему насмешливо, зато «взял в дочки» его юную жену Джиги. Состоялась премьера фильма по «Убийцам» с Бертом Ланкастером, автору понравилось. Вообще он был спокоен, приступы раздражительности утихли. Если только все обитатели и гости Кетчума не сговорились лгать, на Хемингуэя тамошняя атмосфера действовала благотворно, чего не скажешь о гаванской: то ли соблазнов меньше, то ли круг общения более подходящий.
Из Кетчума поехали в Нью-Орлеан, где Хемингуэй в первый и последний раз встретился с новыми тестем и тещей (не понравились друг другу), потом в Солт-Лейк-Сити. В декабре три недели провели в Нью-Йорке, встречались с Лэнхемами, с Уинстоном Гестом, вместе охотились в частном имении общих знакомых, Гарднеров. Охота не удалась, Хемингуэй много пил и с людьми вел себя грубо, дружба с Лэнхемом угасала; тот вспоминал, что на фронте его друг был подтянут, здесь ходил в грязной одежде «под индейца», неприятно «опрощался», отказывался принимать ванну. Мэри не обращала на это внимания, Лэнхем якобы заставил друга побриться, надеть галстук и привести себя в божеский вид. По окончании охоты Хемингуэй ходил в редакцию «Дейли уоркер» бить Майка Голда, но не застал. Под Рождество вернулись домой. Там ему стало хуже.
Роберто Эррера о первых месяцах 1947 года: «Папа часами простаивал у пишущей машинки. Мы сидели на веранде и не слышали ее стука. Потом он отходил, брал чистый лист бумаги и карандаш, садился за стол, подолгу теребил правое ухо, ворошил своей огромной пятерней короткие волосы. Лежа на кровати, до обеда перелистывал старые европейские и американские журналы». Менокаль и Вильяреаль свидетельствуют, что хозяин «Ла Вихии» был «сам не свой», жаловался, что не идет роман (какой? Одним говорил, что о войне, другим — о «садах», имея в виду, вероятно, «Сады Эдема»), срывался, доктор Эррера заговорил о Марте — ответил бешеными ругательствами; с Мэри, по словам Вильяреаля, скандалили ежедневно. А в апреле случилось очередное несчастье.
Младшие сыновья прибыли на весенние каникулы, через неделю Грегори уехал в школу, а Патрик остался готовиться к экзаменам в Гарвард. 12-го он в Гаване сдавал экзамен, провалился, но был в нормальном настроении, а утром 14-го впал в беспричинное буйство, была высокая температура, головные боли. Мальчика насильно уложили в постель, около него дежурили братья Эррера, Вильяреаль, Хуан Дунабейтиа, отец в отчаянии телеграфировал Полине (Мэри срочно вызвали в Чикаго — у ее отца был рак). Выяснилось, что неделю назад, когда оба сына гостили у матери, они попали в автомобильную аварию (за рулем был Грегори, хотя по возрасту не имел прав) и Патрик ударился головой. Полина приехала, не ссорились, горе сблизило. Патрик отказывался есть, не узнавал окружающих. Пригласили на консилиум трех местных врачей, один из них, Лавальета, сказал, что мальчик умрет.