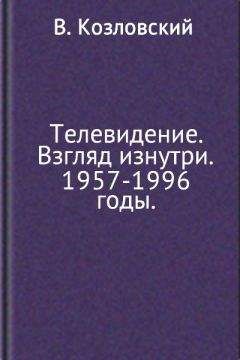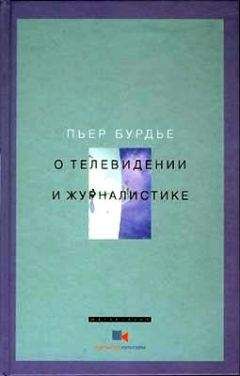Леон Островер - Петр Алексеев
— У того холмика маленько присядем, нужно-от деньги посчитать, потому у меня, брат, старуха бедовая, сейчас ей подавай отчет, а то начнет моркву стругать.
Дотащился Алексеев до бугра. Старик скинул с плеча мешок и принялся считать свою наличность. Несколько медяков он положил в карман:
— Это, брат, надо отдать кабатчику.
Остальные деньги он спрятал за пазуху,
— Другой раз зайдешь к нему, выпьешь в долг и, значит, надо теперь расплатиться, а то, пожалуй, боле и не поверит. Только ты смотри, придем домой, не говори старухе моей, что, мол, заходили в кабак, на этот счет она у меня во какая строгая!
Пришли, наконец, в Голомидово. Село большое, с двумя каменными церквами. Солнце уже начинало припекать. Перед кабаком стояли возы.
— Зайдем разговеемся, — предложил старик.
Алексеев потребовал стакан водки, а старик сказал кабатчику:
— Мне, Митрич, махонькую.
Когда кабатчик отошел от столика, старик начал поучать Алексеева:
— Ты, брат, стаканами не требуй. Митрич-от шельма, не доливает, а в махоньком стаканчике ему плутовать несподручно.
Выпили, расплатились. Старик усиленно приглашал Алексеева к себе, сулил пышками накормить. Но Петр Алексеев решительно отказался:
— Недосуг, ярманку провороню.
Он достал из короба пачку иголок и две катушки ниток.
— Отдай своей старухе.
— Это за что ей такой подарок? — удивился старик.
— За то, что она бунтует.
Старик как-то по-детски надул губы, потом многозначительно промолвил:
— Вон оно как!..
На ярмарке было уже людно. Торговали с возов, с рундуков и вразнос с лотков и коробов.
Петр Алексеевич выбрал себе местечко в «красном» ряду. Он разложил свой товар и, веселый от выпитого вина, зазывал:
— Подходи, подходи! Товар московский! По случаю купил, задешево продам!
Бабы недоверчиво посматривали на бородатого парня и проходили мимо. «Чересчур бойкий, — думали они, — такой и обманет и обсчитает». А девки льнули к Алексееву. Одни искали нужное, другие только для видимости рылись в товаре: им нравился сам продавец.
Весело торговал Петр Алексеев. Он вернулся в свое прошлое: стал деревенским парнем, для которого ярмарка большой праздник. То высмеет какую-нибудь курносенькую, то вдруг с галантностью деревенского ухажора протянет девушке колечко: «Бери!»
Это веселье, это многолюдье не понравилось соседним торговцам. Один из них — мордастый, с короткой шеей и крохотными злыми глазами — рванул Петра Алексеева за руку и раскричался:
— Ты чего, варнак, цены сбиваешь? Краденым торгуешь!
И в том, как Алексеев схватил мордастого за шиворот, как вынес его на середину площади и швырнул в лужу, также сказался деревенский парень, который привык разрешать споры кулаком, а не словами.
«Наука» пошла впрок купчишкам — они оставили в покое веселого конкурента.
К обеду затих базар. Алексеев уже подумывал свернуть торговлю, когда заметил, что к нему приближается крестьянка. Высокая, стройная, она не шла, а плавно подвигалась вперед, словно плыла по воздуху.
Подошла и начала молча рыться в товаре. Брала из короба то одно, то другое и тихо спрашивала:
— За сколько отдашь?
Было в ее обличье, в ее повадках что-то напряженное, настороженное — такими бывают гордые невестки в доме злой свекрови.
— Чего, собственно, ты ищешь? — заинтересовался Алексеев.
— Гребешок мне нужен, и мальчонка ножичек просил.
— Сколько лет твоему мальчонке?
— Большой уже, седьмой пошел.
— А денег много у тебя?
Крестьянка разжала кулак: два пятака.
— Мало отпустил тебе твой хозяин.
— Нет у меня хозяина, помер.
Она говорила ровным голосом, чуть виноватым, но не печальным. Она не жаловалась, не навязывала никому своей нужды. Одета опрятно, лицо приветное, только глаза — тихие, как у человека, уже свыкшегося со своим смертельным недугом.
Алексеев выбрал лучший ножик — сам заплатил за него двадцать семь копеек — и лучший гребешок, беленький, с крепкими частыми зубьями.
— Эх, ты, — сказал он укоризненно, подавая крестьянке ножик и гребешок, — искала-искала, а того, что тебе нужно, не приметила!
— Дорого.
— У купцов, что брюхо отращивают, дорого, а у меня совесть есть. Грошик заработаю — и с меня хватает. Плати, тетка, пятак, и в расчете будем.
Она глянула на Алексеева — в ее взгляде отражалось и удивление, и благодарность, и еще какое-то сложное чувство, которое можно было бы выразить словами: «Ты меня понял».
Алексеев выдержал ее взгляд, не выдал своего волнения.
Крестьянка уплатила пятак, спрятала покупку за пазуху и ушла. Только походка стала у нее странной — спотыкающейся, словно вот-вот остановится или рухнет на землю.
Покойно стало на душе Петра Алексеева. Тяжелые мысли развеялись: его «хождение в народ» вдруг обрело какой-то смысл. Нищая крестьянка, гордо несущая свой тяжелый крест, выросла в символ: народ дошел до последней черты, и долго так продолжаться не может. Взрыв неизбежен.
Пообедав в трактире, Алексеев отправился дальше. Вечером он подошел к ручейку. Вдали виднелась деревня Ясенки.
Алексеев прилег отдохнуть. Вдруг слышит шуршание. Из поросли вылез мужик:
— Нет ли огня? Охота покурить, да огня не захватил.
— Садись, покурим.
Сел мужик и начал вытряхивать табачную пыль из своего кисета.
Алексеев предложил своих корешков. Закурили.
— Куда направился? — спрашивает Алексеев.
— Вот тут недалече, к помещику. Вишь ты, какое дело. Подрядились мы с осени с бабой под овес; тут вот овес подходит, она — нате! — родила. Так вот иду к нему, не переведет ли нас на пшеницу да не даст ли полтину денег на крестины. Ноне всем плати, и попу нужно тоже заплатить, тоже даром не покрестит. Ну, спасибо за табак, надо к помещику идти, аспид его возьми!
Мужик скрылся.
Алексеев хотя и отдохнул уже, а все же не двинулся с места; разыгралось любопытство: даст ему помещик полтину?
Вот и мужик шуршит в зарослях.
— Ты все еще здесь?
— Здесь. Торговать уже поздно, спать еще рано, вот и сумерничаю на прохладе. Садись, покурим еще, да рассказывай, чем помещик тебя порадовал.
— Порадовал, окаянный! Говорит: «А я чем причиной, что твоя жена родила?» Такой аспид! Стал было его просить, чтобы уважил, так куда тебе, и слушать не стал! Так я и пошел ни с чем, даром только проходил.
— И на крестины денег не дал?
— А то даст такой аспид! Скажу тебе прямо: во как затянуло! Не житье, а лебеда, и то с песком. — Он поднялся, примял окурок каблуком. — Ничего, брат, когда-нибудь и мы покуражимся, — закончил он загадочно.