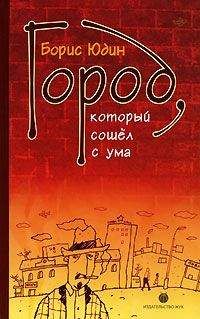Борис Кремнев - Моцарт
Каждый раз это была та же самая и вместе с тем до неузнаваемости новая тема. Крохотная косточка, брошенная в плодородную землю, казалось бы, ничуть не похожа на усыпанное плодами дерево, но именно она, эта косточка, и дала жизнь плодоносящему дереву.
Иногда Моцарты выступали не в битком набитых залах, а в малолюдных, холодно-чопорных покоях дворцов. Такие выступления сулили мало выгод: сиятельные особы в большинстве своем были либо безденежны, либо скаредны, либо предпочитали тратить деньги на удовольствия, мало чем напоминающие искусство. Но не выступить при дворе было нельзя: каждый царек был неограниченным хозяином своих владений, всякое его желание — непреложным законом. «Принц Карл, — пишет Леопольд из Брюсселя Хагенауэру, — заявил мне, что хочет послушать детей. Но, кажется, из этого ничего не получится. У принца полно других пристрастий. Он только и делает, что охотится, жрет и пьянствует. А в конце концов еще выяснится, что у него нет денег. И все же я не имею права уехать или дать открытый концерт и вынужден ожидать решения принца». В другом городе Леопольд с горечью констатирует: «В Аахене была принцесса Амалия, сестра прусского короля, но у нее нет денег. Если бы все поцелуи, которые она раздала моим детям, были новенькими луидорами, мы купались бы в счастье. Однако ни хозяин гостиницы, ни почтовые смотрители не согласны принимать в уплату поцелуи».
Наконец Моцарты покинули пределы Священной Римской империи германской нации. Позади остались концерты в Мюнхене, Аугсбурге, Шветцингене, Гейдельберге, Маннгейме, Вормсе, Франкфурте, Кобленце, Бонне, Кельне, Аахене, Брюсселе. 18 ноября 1763 года четверка почтовых привезла путешественников в Париж. Пестрая суета парижской жизни оглушила немецких провинциалов, привыкших к сонной тиши маленьких городков.
Но уйма новых впечатлений не притупила зрения Леопольда. Он видит, что и во Франции народу живется немногим лучше, чем в Священной Римской империи германской нации. И здесь ужасающая нищета, безысходные горести, тяжкие страдания, притеснения неимущих, во много крат усиленные войной. «Губительные последствия последней войны, — отмечает Леопольд, — видны здесь повсюду, даже невооруженным глазом… Трудно найти место, где бы не было полно убогих и калек. Стоит лишь на минутку заглянуть в церковь или пройтись по одной-двум улицам, как тотчас натыкаешься на нищих — слепых, хромых, парализованных, полусгнивших». И рядом со всем этим все возрастающая роскошь, баснословное богатство кучки людей, наживающихся на страданиях народа. «Французы силятся во что бы то ни стало сохранить прежнюю роскошь, — продолжает Леопольд. — Потому никто так не богат, как откупщики, знатные же господа не вылезают из долгов. Огромные богатства находятся в руках какой-то сотни людей. Все это крупные банкиры и генеральные откупщики».
И еще одно очень быстро понял Леопольд: в Париже без сильной поддержки не пробиться. Привезенные рекомендательные письма ничего не дали. Парижская знать слишком много перевидела и переслышала всяких знаменитостей, чтобы заинтересоваться каким-то зальцбургским капельмейстером (Леопольд для пущей важности самочинно повысил себя в должности) и его детьми. Да и вообще музыка у пресыщенных парижских аристократов была не в чести. Опера почти всегда пустовала, концерты посещались плохо. Банкиры и откупщики, во всем старавшиеся походить на аристократов, тоже были глубоко равнодушны к искусству. Самостоятельно устроить открытые концерты для широкой публики не было никакой возможности: вся музыкальная жизнь столицы целиком подчинялась концертным обществам. Они прочно держали в руках все нити. Без разрешения концертных директоров нельзя было получить зал, достать же это разрешение было очень трудно. Концертные директора безжалостно подавляли всех конкурентов.
Изобретательный Леопольд пробовал привлечь внимание публики. Приехав в Париж, он заказал малоизвестному художнику Кармонтейлю — тот недорого брал за работу — групповой портрет: маленький Вольфганг в пудреном парике с косичкой и в длиннополом камзоле — за клавесином, сам Леопольд, играющий на скрипке под аккомпанемент сына, и поющая Наннерл с нотами в руках. Удалось сыскать и гравера. Некий мсье де ла Фосс, тоже за небольшую плату, сделал с картины гравюру, и весьма неплохую. Теперь Моцарты концертировали, но, увы, только лишь на бумаге, на гравюре, а не в концертном зале.
Помощь пришла неожиданно, откуда ее совсем не ожидали. Когда Моцарты выступали во Франкфурте, одна из восторженных поклонниц маленького артиста, жена скромного франкфуртского купца, предложила Леопольду рекомендательное письмо в Париж. Хоть оно было написано незнатной особой и адресовано всего только некоему мсье Мельхиору Гримму, Леопольд не отказался от него. Не хотелось обижать добрую женщину, да и не в его правилах было чем-либо пренебрегать — кто знает, а вдруг пригодится? И это письмо как нельзя лучше пригодилось. То, что не сделали письма многих высокопоставленных людей, свершило письмо простой купеческой жены из Франкфурта.
Фридрих Мельхиор Гримм — офранцузившийся немец, сын пастора из Регенсбурга — оказался тем человеком, который распахнул перед Моцартами двери неприветливого Парижа. Двадцати пяти лет Гримм покинул Лейпцигский университет, в котором учился, и прибыл в Париж «на ловлю счастья и чинов». Пронырливому и бойкому молодому человеку удалось устроиться секретарем герцога Орлеанского. Однако юный немец, обладавший острым политическим нюхом, очень скоро почуял, что куда прибыльней ориентироваться на новые, поднимающиеся силы. Он знакомится с Руссо, сближается с представителями интеллектуальной верхушки все более и более крепнущего третьего сословия, с выдающимися просветителями Дидро и Даламбером. Вместе с Дидро и Даламбером он принимает участие в выпуске знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», возвещавшей миру новые, прогрессивные идеи просветительства, идеи, подготовившие будущую буржуазную революцию.
Гримму претили радикальные взгляды Жан Жака Руссо на переустройство мира, его пугала «мужицки-плебейская» революционность учения Жан Жака. Это в конце концов привело к разрыву между ними. Но с Дидро и Даламбером Гримм продолжал водить дружбу. И ему быстро удалось занять довольно значительное место в духовной жизни Парижа тех лет. Ловкий, остроумный, блестяще образованный, он стал своим человеком во многих влиятельнейших салонах столицы. Безгранично честолюбивый, холодно-расчетливый, Фридрих Мельхиор Гримм неуклонно стремился к тому, чтобы упрочить свое положение в обществе. И в конце концов вполне преуспел: выходец из захудалого немецкого городка, сын провинциального пастора стал бароном.