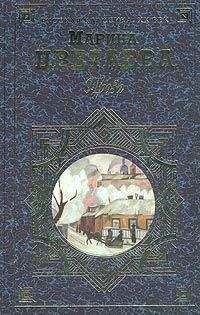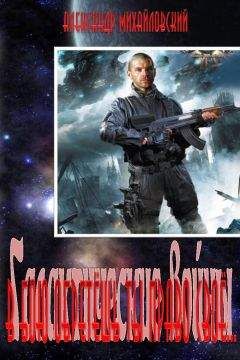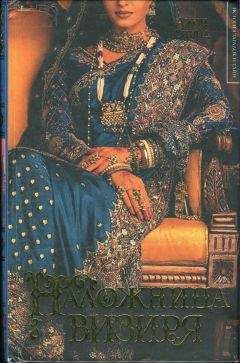Евгенией Сомов - Обыкновенная история в необыкновенной стране
Это было его развитие идей «Заката Европы» Освальда Шпенглера, которого он очень ценил. «Вей» — это одновременно и название божества в новой мировой империи, возникшей на основе объединения азиатских стран, и одновременно имя верховного диктатора империи, которое передается от одного диктатора к другому. Так что он как бы бессмертен.
Пророчества его были всегда достаточно мрачны. Он уже тогда понимал, что демократическая система в условиях инфильтрации с Востока и из Африки уже изжила себя. Она слишком слаба и несовершенна, чтобы сдержать этот демографический натиск. Он также считал, что и гуманизм уже вреден, он в новых условиях не соединяет людей, а разъединяет — он называл его «социал-эксгибиционизмом». Спорам нашим, как всегда, не было конца.
Прошло еще несколько лет. Я получил письмо от Павла, в котором он мне сообщал, что жена Топорнина умерла. Павел посетил его. Алексис был, как всегда, бодр и держался молодцом, но было заметно, что что-то надорвалось в нем. Как всегда, он шутил и фантазировал, сидя вместе с Павлом на диване, но вдруг не выдержал, упал к нему на грудь и зарыдал. Как писал мне Павел: «Маска вдруг спала с него, и в моих руках лежал очень одинокий и слабый старик».
Но это была лишь минутная слабость: при нашей следующей встрече он, как и прежде, сиял и сыпал своими фантазиями. Мы удивились, что он одет в военный полковничий мундир без погон и с кантами на брюках, который ему очень шел.
— Что это? Расскажите, Алексис.
И тут он покаялся. Он женился в седьмой раз. Это была теперь вдова полковника — героя войны — Варвара Есперовна. Познакомился он с ней случайно в очереди за сосисками и сразу же обольстил. Жила она в огромном комфортабельном доме для комсостава армии, в большой квартире в центре Москвы. Ей шел уже седьмой десяток, ему восьмой — они поженились. Быстро сориентировавшись в обстановке, он заявил ей, что тоже был полковником, участником Гражданской, а потом и Отечественной войны, служил все время в штабе дивизии, дошел до Эльбы, но там черт попутал его. Завел он флирт с машинисткой из штаба союзников, был арестован, но по недостатку фактов выпущен на свободу, хотя разжалован в лейтенанты. «Потому и пенсия такая маленькая», — объяснял он. Варвара Есперовна, наверное, очень хотела ему поверить, и ей это удалось.
В шкафах квартиры так и продолжали висеть мундиры героя-полковника с еще неспоротыми орденскими колодками. По счастливому совпадению все эти мундиры по размеру точно подходили и Алексису. Варвара Есперовна была счастлива, видя Топорнина в мундирах мужа, в ее жизни как бы ничего не переменилось. Алексис же придумал для этих нарядов и другое предназначение.
Посмотрев на себя в зеркало, он воскликнул: «Фронтовик — так фронтовик!».
Утром он стал обряжаться в мундир, направляясь в московские универмаги и гастрономы, где постоянно были огромные очереди за появившимися дефицитными продуктами: бананами, копченой колбасой, сосисками, курами. Он подходил к огромной очереди у дверей магазина со словами: «Давайте-ка установим порядочек, граждане!». И устанавливал, да так, что проход для него вовнутрь магазина оказывался свободным. Тогда он протискивался с такими же словами к прилавку, улыбаясь стоящим: «Всем достанется!», и просил продавца отвесить и ему пару килограммов. Весь его вид гипнотизировал толпу, стыдно было и подумать спросить его об удостоверении офицера в отставке, участника Отечественной войны, да еще многократно раненного. А вдруг покажет — позор! Толпа почтительно расступалась. А если и бывали случаи, что какой-нибудь нахал кричал: «Покажи удостоверение!», то в ответ летело: «Вот ты меня под Брестом бы спросил его!». И сомневающийся стихал.
Алексис так вошел в эту роль, что даже прогуливался вечером с Варварой Есперовной по улице Горького в мундире полковника, без погон, но при орденах, так что встречные военные порой отдавали ему честь.
Прошло еще несколько лет. Я неожиданно получил письмо от Варвары Есперовны: Алексей Николаевич Топорнин умер. Он уже давно стал готовить ее к своей скорой смерти, заранее утешая. Но в этот день под утро он тихо встал с кровати, не тревожа ее, вышел из комнаты. Через час он не вернулся, и она пошла искать его — он лежал мертвым на полу в туалете.
Я сразу же приехал к ней, мы долго рассматривали его фотографии, читали письма. Наконец, я спросил о его архиве и набрался нахальства подойти к тем самым стеллажам, перевезенным из старой квартиры, и открыть дверцы одну за другой. Там продолжали стоять аккуратно подобранные цветные папки. А вот, наконец, и заветные — голубые. Я открываю их одну за другой, но из них вместо философских трудов вылетают вырезки из газет и журналов и много чистых листов бумаги. Я перехожу к другим папкам — там письма, фото и опять вырезки.
— Где же «Голубая Лилия» и «Философия Небытия»?! — почти кричу я.
Варвара Есперовна на минуту задумывается.
— Ах, да! Он мне сказал, что ему было приказано свыше уничтожить все его рукописи. Он их сжег в камине. — И потом, подумав, прибавила: — И еще он мне сказал, что теперь все его идеи переселены им в сознание других людей и будут там в них сами самостоятельно развиваться!
Я не удержался от улыбки: «Ах, Алексис, как это на тебя похоже — ты даже и после смерти остался верен себе!».
Потрясло меня и то, что он скончался в 1974 году, как и предсказывал нам уже давно. Совпадение? Возможно.
Будучи приверженцем учения о переселении душ, он как-то сказал нам, что следующая его ипостась, в которую он переселится после смерти, станет птицей буревестником. Буревестник — редкая птица. И теперь, когда я вижу буревестников, реющих над морем, я задумываюсь: а который из них Алексис?
Алексис, где ты?!
Степь, да степь кругом…
Ах, как же ты прекрасна, казахстанская степь, когда летним вечером, после знойного дня стихает ветер и огромный темно-багровый диск солнца трепещет в потоках воздуха, медленно уходя за горизонт. С долин начинает тянуть прохладой, и степь уже дышит горьковатым ароматом полыни. Гурты овец укладываются перед кошарами, и усталые после знойного дня чабаны разводят огонь в таганках, от которых вверх, в уже потемневшее небо, струится сизый кизячный дым. В наступившей тишине становится слышно, как лошади пощипывают траву и хлещут себя хвостами, отбиваясь от появившегося гнуса. Собаки заливаются бессмысленным лаем, как бы показывая, что и они уже заслужили свою еду.
Люди рассаживаются кружком у огня, вытаскивают из золы лепешки и кладут на круглый медный поднос. Крепкий чай уже готов, и его разливают в пиалы. Все говорят тихо, уважая это вечернее затишье. Спокойные, морщинистые от солнца лица чабанов обращены к огню: они как бы вслушиваются в степь и ведут тихую беседу.