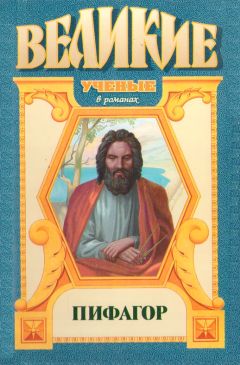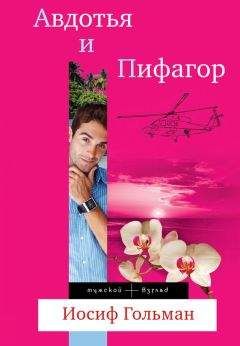Хескет Пирсон - Бернард Шоу
С 1930 года начинает выходить в свет авторизованное Собрание сочинений Шоу. Он на целые годы затянул появление первого тома: все не мог заставить себя «подобрать то, что разбросал дорогой». Для Собрания сочинений он перечитал свой неопубликованный первый роман «Незрелость» и предпослал ему автобиографическое предисловие. «Это очень смешная книга, но я тут ни при чем, — пишет он старому другу Стюарту Хедлэму. — Я уберегся и только сейчас в первый раз ее перечитываю. Веселое, оказывается, чтение — даже повеселее, чем «Юные посетители». Кроме того, это приятная книга, выдержанная в образцовом викторианском стиле. И в ней есть проблески моей будущей пьесы. Когда Гёте пытались расспросить о его жизненном пути, он сказал: «Я все знал наперед». Очевидно, и я «все знал наперед», хотя Генри Джордж[170], а позже Маркс совершенно преобразили мое отношение к нашей цивилизации. Вас никогда не тянуло на автобиографию? Для своего собрания я написал автобиографические заметки. Они мне не нравятся. Но одно в них хорошо: я не виляю, не петляю, мне нечего прятать».
Куда только не гонит человека слава, чем только не заставляет заниматься! Шоу был любитель поторчать в старых храмах — один, в тишине. В Вестминстерском аббатстве, посреди толпы знаменитостей, собравшихся на какую-нибудь светскую церемонию, его почти нельзя было себе представить. Тем не менее он и туда попал — нес урну с прахом Томаса Харди. С ним рядом шли Джон Голсуорси, Джеймс Барри, Редьярд Киплинг, Альфред Эдуард Хаусмен и Эдмунд Госс. Присутствующим на похоронах довелось видеть, как были представлены друг другу пророк империализма и пророк социализма, два главных представителя в литературе двух главных политических сил своего времени. Им еще не приходилось встречаться лицом к липу. Киплинг такой встречи и вовсе не жаждал. Эдмунд Госс, однако, ничего не хотел об этом знать. Он схватил Киплинга за рукав и насильно представил его Шоу. Шоу рассказывал: «Киплинг нервно засуетился, шмыгнул в мою сторону, выбросил внезапно руку, пробормотал «Здравствуйте», тут же забрал руку назад, видно, не доверяя ее мне, и засеменил в угол, где его опекал Хаусмен… Ну и процессия же у нас была! Две каланчи, по два метра каждая, я да Голсуорси, — разве не импозантно?! Я как раз позировал тогда Трубецкому для скульптуры во весь рост и мог сохранять одно выражение лица целых полчаса.
Голсуорси был импозантен от рождения. Барри, который нам, конечно, был не компания, тоже по-своему выделялся, умудрившись выглядеть так, будто в нем ровно восемь сантиметров от пола. Так мы и продвигались, воображая, что несем на своих плечах прах какой-то части тела Харди, предназначенной к захоронению в аббатстве. А Киплинг, выступавший в этой процессии прямо передо мной, все дергался и то и дело менял ногу. Всякий раз при этом я давил ему пятки».
Времени становилось все меньше и меньше. Шоу стал ходячей фабрикой цитат, а такая репутация даром не проходит. Спрос на него возрастал с каждым днем. Но ничто не могло заставить его отказаться от своих старых привычек, и, как прежде, он разражался громоподобными статьями, стоило ему прознать об очередном безобразии или идиотизме.
Из тюрьмы Панхерст бежал заключенный. Он был пойман и, согласно тюремным правилам, закован на полгода в цепи. Со страниц «Дейли Ньюз» раздался голос Шоу: тюремные власти просто-напросто мстят заключенному за свой собственный промах: «Его ведь приговорили к тюремному заключению — он не сам себя привел в тюрьму. Даже из спортивного интереса (не более) заключенный должен был вывести, что его священный долг убежать при первой же возможности. У тюрьмы все преимущества: общество дает ей деньги; к ее услугам засовы и решетки, часовые и ружья, стены и колючая проволока, клеймо тюремной одежды — решительно все преграждает путь к свободе несчастному, беспомощному одиночке. Будь он хоть трижды головорезом, общественное мнение обязано приветствовать его кратковременное торжество».
Шоу кипятился — и не напрасно: наказание цепями вскоре было отменено. Выступление Шоу на этот раз вполне гармонировало с его другими высказываниями: «Ни один преступник не сравнится ни в своей способности к жестокости, ни в размахе своей злокозненной деятельности с организованной нацией… Она же узаконивает собственные преступления, выпуская на каждый случай свидетельства о своей праведности и зверски истязая при этом всякого, кто осмелится открыть истинный смысл происшедшего».
В мае 1928 года, в связи с приездом в Лондон доктора Сержа Воронова[171], известный бактериолог доктор Эдуард Бах предостерегал в «Дейли Иьюз» об опасности метода омолаживания с помощью пересадки обезьяньих желез: у подопытного пли у его потомства рано или поздно обнаружатся худшие свойства обезьяны. А для обезьяны прежде всего характерны жестокость и чувственность. Бернард Шоу мгновенно стал горой за обезьян, подписав свое письмо «Консул-младший» (Консулом звали всем известного шимпанзе из цирка) и указал обратный адрес: Обезьяний домик в Риджентс-парке.
«Назовите мне обезьяну, которой пришло бы в голову вырывать у живого человека железы и пересаживать их другой обезьяне — ради непродолжительного и противоестественного продления обезьяньего века. Что, Торквемада был обезьяной? Неужели инквизицию и Звездную палату[172] придумали обитатели нашего питомника? Железная корона Луки и ложе из стали Дамиена[173] — разве это все обезьяньи забавы? И разве требуется нам создавать Общество защиты детенышей, на манер вашего Общества защиты детей? Кто воевал в последней войне — обезьяны или люди? Кто придумал отравляющие газы — горилла или человек? И как это доктор Бах осмеливается, не краснея, поминать «жестокость» в присутствии обезьян? В лабораториях, созданных учеными людьми, нам безжалостно выжигают мозг. После этого ученый укоряет нас в жестокости!» Напомнив, что «оспопрививание и другие профилактические прививки не одарили пока человека ни добродетелью коровы, ни достоинствами лошади», Консул-младший заключил: «Человек остается тем, чем он был всегда, — самым жестоким из животных и утонченно, дьявольски чувственным существом. Пусть же он не злоупотребляет своим скандальным сходством с нами. Сколько бы ни старался доктор Воронов, ему не превратить это недоразумение в благородную обезьяну!» Шоу не видел за человеком преимущества даже в гигиене. Года через три после визита Воронова он подал в городской совет Сент-Олбанса жалобу на то, что Излингтонский окружной совет устроил мусорную свалку в Уитхэмстеде, в миле от дома, где жил Шоу: «…когда ветер дует в мою сторону, он навевает мне мысли не о шекспировском «трепете ветра, скользнувшем над фиалками»[174], но о Стромболи, об Этне и Везувии, о преисподней…».