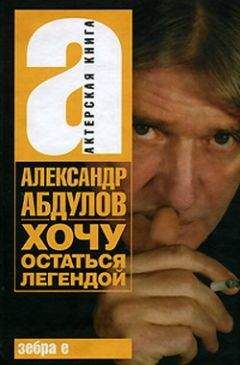Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике
Что в этой реконструкции былого почерпнуто из воспоминаний и что — из моего представления о собственном прошлом, которое я, возможно, на них накладываю? Обращение в философию и приход к левому мировоззрению на семнадцатом году жизни; четко определившиеся убеждения, политические страсти (радость при победе Левого блока в 1924 году), эмоциональное участие во всех событиях, будь то во французском парламенте или во всемирной истории… Не думаю, что интеллектуальная память деформирует или искажает подлинный опыт подобного рода. Но я забегаю вперед; пока я еще в классе философии лицея Гоша, я выбрал жизненную стезю; мой выбор продиктован простотой и легкостью, моими вкусами, школьными успехами и откровением, каким стала для меня философия. Представлял ли я себя преподавателем лицея на протяжении всей жизни? Мечтал ли я уже о «творчестве»? Или о диссертации, обычном этапе после получения звания агреже? Не знаю и, вероятно, не знал этого в семнадцать лет. В своем Версале я был похож на провинциалов, на тех отличников, которые являются в Париж, не заглядывая дальше своих экзаменов, Высшей педагогической школы и конкурса. Только соревнование с другими на подготовительном курсе и позже должно было показать мои шансы на будущее. Во всяком случае, вопреки представлению, которое сложилось у многих моих товарищей, конкурсы меня пугали, а победы не внушали настоящей веры в себя; я хочу сказать, такой веры, которая нужна, чтобы посвятить себя творчеству. Я завидовал уверенности в себе, какой обладал Ж.-П. Сартр, и в душе считал, что он прав, так же как я прав в своих сомнениях, подлинность которых он с трудом допускал.
Я почти ничего не сказал о моей матери и брате Робере. Как говорить о матери, не восстанавливая смутных воспоминаний своих первых лет — чего я не сумел бы и не хочу делать?
Родители всю жизнь казались мне очень дружными, несмотря на то, что брак был «устроен» их семьями. Моя мать нигде не училась (она охотно упоминала об одной девушке, сдавшей экзамен на степень бакалавра, которую прозвали «вогезской бакалавршей»). С трудом пережив разлуку с матерью и сестрами, она всецело посвятила себя мужу и детям. Но она не могла помогать отцу ни в его карьере, ни в делах. Как я слышал, она плохо перенесла отъезд в Канн, ей не терпелось вернуться в Париж, и она побудила отца удовольствоваться маргинальным (тогда в большей степени, чем теперь) преподаванием 32.
Мать стала жертвой судьбы, уготованной ей обычаями той эпохи. Была ребенком вплоть до своего замужества, плакала в день свадьбы с человеком, которого мало знала. Пока ее дети оставались в семейном коконе, была счастлива. Бунт и черствость Адриена причиняли ей боль; она страдала из-за нашего разорения. И ни разу не упрекнула отца, отдала ему все, что у нее было, — несколько драгоценностей, кольца. После его смерти в 1934 году осталась без средств к существованию и зависела от сыновей, которых ей бы хотелось «баловать» до конца жизни. Единственная внучка принесла ей меньше радости, чем она надеялась. Она стремилась полностью войти в роль бабушки — к этой роли ее предназначало понимание жизни, пришедшее из мира, который канул в Лету. Она не могла подарить нам семейное тепло, потому что теперь была одинока. В июне 1940 года она умерла в городке Ванн, где жила одна.
Я часто размышлял над судьбой трех «каштанчиков». Насколько могу судить, гены наделили обоих братьев способностями, вполне сопоставимыми с моими. Адриен мог бы, вероятно, поступить в Высшую политехническую школу. Робер хорошо и легко писал. Первый посвятил бриджу и маркам весь свой ум, неизменно поражавший меня остротой. Я считал, что он всуе расточает редкий дар. Я не мог запретить себе судить с нравственной точки зрения образ жизни, который он вел до войны. Он не нарушал никакого закона; те, кто регулярно играл с ним, не могли не знать о его превосходстве — ясно, что рано или поздно они должны были потерять свои деньги. При всем том Адриен, который шокировал и огорчал меня отсутствием нравственного чувства, оставался мне братом — любящим братом, всегда готовым оказать услугу. Свои последние дни он провел со мной, ожидая смерти без тоски и страха.
Робер, оказавшийся между двумя крайностями — один брат блистал в спорте, другой в учебе, — никогда полностью не преодолел свое невыигрышное положение на старте. Он стал одновременно лиценциатом права и философии. В тот момент ему необходимо было принять решение: либо готовиться к конкурсу на звание агреже по философии, либо оставить университетскую стезю и, отслужив в армии, найти себе работу. У него не хватило мужества сделать выбор, и он еще год посвятил диплому по философии. Эта работа была, кстати, превосходна: классическое сопоставление Декарта и Паскаля завершалось оригинальным толкованием пари 33. Работу, опубликованную за подписью Робера Арона в «Ревю де Метафизик э де Мораль», приписывали то автору «Истории Виши», то мне: третьего автора с этой фамилией никто не знал.
После окончания военной службы он поступил в Парижско-Нидерландский банк; его взял на работу сам директор, с которым я играл в теннис в клубе банка. Робер провел в этом учреждении всю жизнь, за исключением лет оккупации, когда его оттуда уволили. Он вернулся на работу в первый же день Освобождения и прошел там все ступени иерархии вплоть до директора исследовательского отдела. В этом смысле карьера ему удалась. Он не женился, и мне неизвестно, чтобы у него были прочные привязанности. Не знаю, был ли он удовлетворен своей судьбой, которую сначала выбрал и которая потом вела его за собой. Коллеги уважали его, восхищались им; некоторые говорили мне, что сохранили благодарность брату. Он был одним из первых финансовых аналитиков во Франции, настоящим профессионалом.
Однако я сомневаюсь, чтобы Робер обладал всеми козырями, необходимыми для успеха в бюрократическом соперничестве внутри крупного учреждения. Ценя его компетентность, Эмманюэль Моник много раз поручал ему составление годового отчета для Общего собрания акционеров. Но у Робера было чувство, что дирекция использует, эксплуатирует его, что он не получает должного вознаграждения — его интересовали не столько деньги, сколько статус. Он рассказывал, чаще Адриену, чем мне, о своих стычках с начальством. В каком-то отношении он, типичный кабинетный работник, был the right man at the right place[22], но задвинутый в тень. Президентство в филиалах банка, на которое, как брат считал, он имел право, поручалось другим. У него не было психологических данных президента административного совета. Робер мог бы стать незаурядным преподавателем и со своими товарищами по отделу держал себя как педагог.