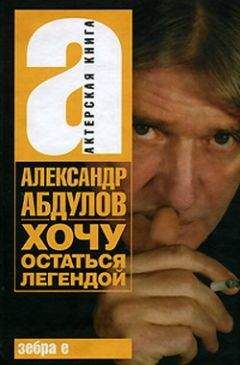Раймон Арон - Мемуары. 50 лет размышлений о политике
Моим одноклассникам было, разумеется, известно, что я еврей. Что они по этому поводу чувствовали? Тогда я этого не знал и, возможно, не стремился узнать. Однажды, когда мне было одиннадцать или двенадцать, при выходе из лицея мне вдогонку раздались крики «грязный еврей», «жид». Пораженный и испуганный, я рассказал о происшествии родителям. На другой день мой «большой» брат Адриен разогнал мелюзгу.
В момент подписания Версальского договора 22 мне было четырнадцать лет, и, по всей вероятности, я горячо спорил в кругу семьи о мировых событиях, о революции в России, об оккупации Рейнской области. Родители позволяли нам участвовать во всех разговорах, даже со знаменитыми профессорами. Они считали правильным, что я обращаюсь к взрослым как к равным, и наивно полагали, что таким способом «освобождают» сыновей. На самом деле они только затруднили наше освобождение. Друзья родителей прозвали меня адвокатом за легкость аргументации. Что именно я защищал в 1918–1920 годах тринадцати-, шестнадцатилетним подростком, сказать не могу. Уже давно я представлял свою интеллектуальную биографию следующим образом: до класса философии — ночь, начиная с класса философии — свет. Я поступил в этот класс в октябре 1921-го. Патриотическое воодушевление шло на убыль; левые собирали свои силы, возвращались к своим идеям. На бледно-голубой, цвета военных мундиров, Палате депутатов рикошетом отзывалось разочарование в результатах победы. Мой отец вернулся к своим умеренно-левым убеждениям. Он голосовал, насколько я знаю, за Национальный фронт 23 в 1919 году и, безусловно, за объединенных левых 24 — в 1924-м. В промежутке был неизменным читателем и подписчиком «Прогрес сивик» («Progrès civique»), еженедельника, который вел избирательную кампанию за левый блок на выборах 1924-го. Отец снова стал дрейфусаром своей молодости; он никогда не был приверженцем Р. Пуанкаре 25, который с таким запозданием «освободил свое сознание», понемногу и осторожно перейдя от пропаганды войны к примирению с врагом.
Учебный 1921/22 год, который я считаю решающим в своей жизни, отмечен в историческом плане последними судорогами великого военного и революционного кризиса. Я не узнал ничего о политике, экономике, большевизме и Карле Марксе, зато впервые открыл для себя зачарованный мир философской спекуляции, или попросту мысли. Я выбрал отделение «А» не столько из любви к древним языкам, сколько из страха перед математикой. В четвертом классе меня травмировал и мне накрепко запомнился тягостный случай: я не сумел найти правильный ответ задачи. Преподаватель написал на моей работе красными чернилами: «Как вы могли не решить такую простую задачу?» Я спасовал перед трудностью, и это, похоже, повторилось со мной при совсем иных обстоятельствах. Писать эссе, подписывать договоры на незначительные книги — разве это не стало для меня другой формой отступления перед препятствиями?
Родители предоставили мне свободу выбора, даже не споря. (Я не лучше повел себя потом со своей дочерью.) Братья пошли по нормальному пути — «латинский язык и точные науки» (отделение «С»), что открывало доступ как в класс философии, так и в класс элементарной математики. Успевающие ученики получали степень бакалавра по обеим специальностям в одном и том же году. Отделение «А» (латынь и древнегреческий) готовило только к получению степени бакалавра по философии и давало минимум математических знаний. Среди гуманитариев мне обычно удавалось быть первым по математике. Я легко усвоил начальные курсы геометрии и алгебры, полагавшиеся по программе. Над задачами порой приходилось поломать голову. Мне легче было рассуждать с помощью понятий, чем знаков, цифр или символов.
Откуда взялось во мне это чувство перелома при переходе из классов французского языка и литературы в класс философии? Я еще и сегодня задаю себе этот вопрос. В конце концов, добрую часть курса занимала психология — довольно странная, вобравшая в себя, с одной стороны, традицию рациональной, наполовину метафизической психологии, и, с другой — начатки психологии научной, эмпирической. Программа не изменилась со времен моего отца, который учился лет за тридцать до меня. И тем не менее этой двусмысленной психологии и фрагментов классической философии, к тому же донесенных до меня не гениальным преподавателем, оказалось достаточно, чтобы раскрыть мне мое призвание и строгие наслаждения мысли.
Наш преподаватель Айе писал всю жизнь диссертацию по философии права, которую так никогда и не закончил, — он потерял к ней интерес, узнав о защите диссертации на смежную тему. Из статьи, опубликованной в «Ревю де Метафизик э де Мораль» («Revue de Métaphysique et de Morale»), можно узнать, что он ставил целью интерпретировать практику судов в свете философии суждения, а не концепта;[18] следовательно, был учеником — не в точном смысле слова — Леона Брюнсвика 26. Впрочем, какой философией он вдохновлялся, было не важно. Айе размышлял перед своей аудиторией; не защищенный доспехами какой-либо системы, он вслух, с трудом искал истину. Его не всегда гладкая речь была способна отвадить юных слушателей. Мне случалось «переводить» объяснения преподавателя для моих друзей Леонарда Риста, Жака Эппа (ставшего впоследствии замечательным хирургом); но работа мысли, в свидетели которой приглашались два десятка семнадцати-, восемнадцатилетних юношей, работа подлинная, безо всякой инсценировки, являвшая собой не спектакль, а человеческий опыт, имела для некоторых из нас единственную, неповторимую ценность. Впервые учитель чего-то не знал, искал ответ на свои вопросы, стремился не внушить нам истину, а подсказать способ мыслить. Несомненно, подлинные ученые преподают не столько готовую истину, сколько искусство или метод ее обретения. Но в лицеях и колледжах учителям редко представляется случай касаться пограничных областей знания, находящегося в становлении, либо воскрешать перипетии прошлых открытий.
Возвеличение мысли как таковой таит в себе известную опасность. Философы часто усваивают скверную привычку приписывать одному мышлению, без опоры на информацию или доказательство, способность постигать истину; другие исключают из процесса анализ или научное доказательство. Как бы там ни было, но несколько месяцев, проведенных с настоящим преподавателем философии, который знакомит молодых людей с идеями Платона и силлогизмом Аристотеля, с «Размышлениями» («Méditations») Декарта и трансцендентальной дедукцией Канта, накладывают глубокий отпечаток на умы и вносят в них нечто незаменимое. Может быть, я забегаю вперед, путаю год в лицее с четырьмя годами Эколь. Решение готовиться в Эколь Нормаль родилось само собой в классе философии. Можно ли, впрочем, говорить о решении? Школы точных наук были для меня закрыты выбором отделения «А». Я не знал о возможности сочетать подготовку на степень лиценциата права со свободной школой политических наук. Хотя во мне пробудился интерес к общественным вопросам, я не думал о политической карьере. Позже, в Эколь, думал о ней не раз, но скорее как о подстерегающем меня искушении, о риске падения. Журналистика в такой же или в еще большей степени, чем ремесло политика, казалась мне признанием своего провала, прибежищем неудачников.