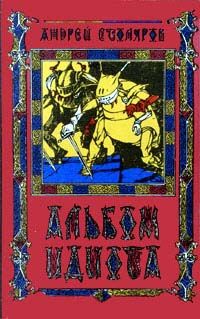Альбом для марок - Сергеев Андрей Яковлевич
В коридоре над вешалкой – вместо шапок – и под вешалкой – вместо калош – лежали Алимпиевы гимназические учебники, случайные книги, альбомчики с перерисованными цветными звездами: Рунич, Максимов, Полонский. За этим никто не присматривал, и мама – по одной – перенесла для меня в нашу комнату Историю древнего мира, Географию Российской империи, Прощай, оружие Хемингуэя.
Бернарихины сыновья были художественными натурами.
Младший, Юлька, лишенец – учиться нигде не мог – женился на подслеповатой вдове богатого артиста Кузнецова (кажется, знаменитый Швандя) и вышел в помрежи Малого театра. В программках встречалось: Ведет спектакль Ю. Бернар.
Юлькин пасынок, сын Кузнецова Миша, воспитанный, поражал меня грубой трезвостью:
Мы прочитали в Мурзилке:
– Жадина, – заключил Миша.
Я радовался игре звуков, созвучий, слов, мне в голову не пришло бы, что из стихов можно вывести – в одно слово – суть. Я задумался: суть получалась верная, но не моя.
Старший, Алимпий, успел кончить несколько классов гимназии и знал, что имеет понятия, вкус и манеры.
По воскресеньям он готовился к выходу в свет – чистил ботинки и лацканы, звонил знакомому администратору Фору́ма (у нас в районе делали ударение на втором слоге), заказывал два билета в ложу и после обеда выводил Тоньку на что-нибудь заграничное. Если перед началом сеанса играл Ла́цо Ола́х – ходили вечером, загодя.
Их любимое – Невидимый идет по городу – обожаемый Гарри Пиль с подмигиванием и Индийская гробница – как выговаривала Тонька, Кондрат Вейт.
Всерьез слушал Алимпий радио, театр у микрофона, МХАТ, Малый, Ленинского комсомола:
Инженер Сергеев
Кому подчиняется время
Под каштанами Праги
Губернатор провинции
Жизнь в цитадели,
эстрадный концерт:
Миров и Дарский
Шуров и Рыкунин,
монтаж оперетты:
Летучая мышь
Сильва
Холопка
Золотая долина,
и больше всего – в конце тридцатых-сороковых был настоящий расцвет – музыкальные радиокомпозиции/радиопостановки:
Много шуму из ничего
Давным-давно
Соломенная шляпка
Бал в Савойе.
В постоянно открытую дверь большой комнаты было видно, как в неудобной позе Алимпий часами выстаивает, замерев под ревущей на всю квартиру черной бумажной тарелкой.
Кумиром его был актер Терехов, такой редкостной красоты, что мама его заподозрила:
– Евреи все красивые…
И этого знаменитого Терехова снабженец Алимпий ухитрился зазвать в гости. Пока Терехов в передней снимал калоши, мама успела показать ему набор открыток – двадцатые годы, Терехов в разных ролях. Гость успел ахнуть – у него таких не было, – Алимпий шикарным жестом пригласил его в комнату.
Терехов пришел после спектакля, поздно, когда, по мнению кухни, гости, собиравшиеся на Терехова, всё уже съели. Хозяйки много дней не могли уняться:
– Он пришел, а ему – ну, одна груша на блюдочке.
– Они эту грушу месяц, наверно, для него берегли – гнилая совсем.
Алимпия не любили, вернее, нелюбили – в одно слово.
Его подозревали бог знает в чем за дружбу с шофером из американского посольства – нормальные люди с посольскими знаться боялись;
обвиняли в разведении клопов – клопы ползли от лежачей Бернарихи; в худшую зиму я за ночь убил больше сотни;
негодовали на службу в МПВО – спасала от передовой.
Как-то мама, забывшись, окликнула:
– Алимпий Людвигович, вас к телефону! – и обмерла: считалось, что полоумный сосед способен ударить.
Валентин Людвигович Бернар в детстве назвал себя Алей – из Али с годами получился взрослый Алимпий.
При всей неприязни соседки наперебой с ним заговаривали и хвастались, если он удостоил ответом.
Единственный в квартире – а может, в квартале – Алимпий читал гибкий волшебно пахнущий послевоенный журнал Америка. Америка полыхала летне-осенним жаром во всех киосках: дорого (десять рублей) и боязно (возьмешь, а вдруг что?).
Вожделенный, роскошно-прекрасный журнал попадал ко мне через Тоньку, и я упивался инобытием – так все было ярко и не похоже:
стихи Сэндберга,
картины Уайета,
художественная фотография,
современные города с многоцветными толпами,
ультрамариновый фермер у вермильонного трактора,
прекрасные, чистых линий и цельных красок сковороды и кастрюли…
Мама – когда мне было лет четырнадцать – пригласила Алимпия послушать две гостившие у меня пластинки Вертинского. Войти к нам он отказался и, страдая, слушал из коридора.
Он был странным образом деликатен.
Никогда ни у кого не одолжался.
Не замечал косых взглядов.
В уборной сжигал за собой бумажку – впрочем, так же делали Клара Ивановна и Борис Федорович, Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна. После Бернарихи долго пахло старушечьей затхлостью.
В пятьдесят третьем году, летом, мы переехали на Чапаевский. Алимпий вскорости умер. Перед войной ему было лет тридцать пять.
В нашей квартире на Капельском не было ни одного орденоносца,
ни одного партийного,
ни одного военного,
ни одного инженера,
никого за все время не посадили,
никто не ездил в эвакуацию,
никто не был на фронте: Борис Федорович и папа – по возрасту, Алексей Семенович – по брони, Алимпий – из-за МПВО (я думаю, по нездоровью).
В эти выкладки не попадаю я сам: малолетний.
Все взрослые по определенному признаку (опускаю семейный) распределялись – каждой твари по паре:
русские – папа и мама,
украинцы – Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна,
прочие славяне – Борис Федорович и Тонька,
несостоявшиеся лимитрофы – Борис Федорович и Клара Ивановна,
евреи – Бернариха и Алимпий,
бывшие иностранные подданные – они же,
бывшие проститутки – Бернариха и Клара Ивановна,
из бывших – Борис Федорович и Бернариха,
кандидаты наук – папа и Алексей Семенович,
артистические натуры – Алимпий и Екатерина Дмитриевна,
интеллигенты – Борис Федорович и Алексей Семенович,
служащие – Борис Федорович и Тонька,
преподаватели – папа и Алексей Семенович,
старые без пенсии – Бернариха и Борис Федорович,
учились в гимназии – мама и Алимпий,
нигде не учились – Клара Ивановна и Тонька,
склочничали – они же,
действовали на нервы – Бернариха и Алексей Семенович,
устрашали – Алимпий и Алексей Семенович.
Кухня – народное собрание, товарищеский суд, телеграфное агентство, дискуссионный клуб и театр самообслуживания.
Едва я родился, кухня потребовала, чтобы мама убирала и за меня, – мама всегда просила Клару Ивановну или молочницу Нюшу.
На кухне – из любви к искусству – разыгрывались драмы типа занятие чужой конфорки или незапись газа в тетрадь.