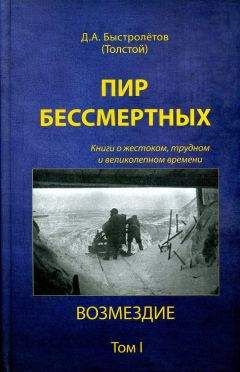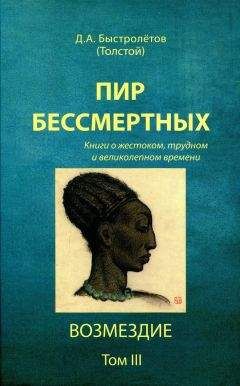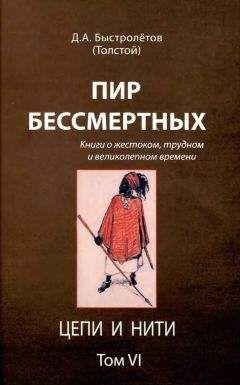Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
Подумал. А свидетели? Я! Моя жена! Иван Иванович, он поругался с Булыгиным и должен мне 5 рублей. Подтвердит!
Письмо бросил в голубой ящик, мысленно нажал кнопку, и Булыгин исчез. Автомат сработал на славу, пишущая машинку осталась соседу, а Николаю достался срок и лесопоруб в Коми АССР.
Но в том-то и дело, что не только наружностью был примечателен Булыгин. Через год каторжного труда он выбился в бригадиры, еще через год — в учетчики. Срок у него был небольшой — пятачок. Подождать бы еще год, получить бы бес-конвойку, досидеть срок, а там было бы видно. Но Николай был молод, миф о Ворошилове он принял за правду. Его жгло сознание несправедливости и волновало молчание отца: он видел в этом козни бюрократов, охраняющих покой любимого Наркома. И Николай бежал. Бежал самым худшим и опасным образом — на рывок. Пули свистели мимо, но он успел скрыться в лесной чаще. Окольными путями добрался до Москвы. Цель казалась почти достигнутой.
В Москве он побрился, оделся получше, взял на руки малютку сына и пошел с женой к отцу. В приемной Наркома ждали просители. Ознакомившись с существом дела, секретарь попросил сесть и исчез. Через полчаса вошел и с улыбкой пригласил: «Сюда, в эту боковую дверь — ведь вы по личному, можно сказать, семейному делу». Все с почтением проводили глазами молодую семью, родственную самому великому Климу. Булыгиных вывели задними коридорами во двор.
Николая посадили в одну машину, а жену с ребенком — в другую. Её вежливо довезли домой, а Николая — в тюрьму. Ему дали 15 лет за побег и направили на Колыму, добывать золото в тундре.
Николай Булыгин мучился загадкой: знал отец или нет? Чьих рук это дело? Нужно было ее разрешить. И Николай принялся за дело. На руднике он нашел два самородка. Один дал нарядчику за перевод в штаб, другой — вольному врачу за направление в этап на Большую Землю в качестве инвалида. По прибытии в Маротделение Сиблага он подружился с вольными девчонками, служившими в штабе делопроизводительницами. Сделал себе свидетельство о досрочном освобождении по пустяковой статье на имя Николая Климентьевича Ворошилова, литер и письмо к отцу, сел на скорый и отправился в Москву. Шел сорок второй год, по поездам ходили патрули. Николай сдал документы проводнице, лег на верхнюю полку и заснул.
Проснулся от ласкового, но настойчивого прикосновения.
— Извините, товарищ Ворошилов! Проснитесь! Прошу прощения!
Николай открыл глаза. Вокзал. Новосибирск. В купе начальник поезда, начальник охраны поезда, начальник ГПУ станции, секретарь райкома и ожидавший отъезда на Запад пожилой генерал.
— Вы извините, Николай Климентьевич… Недосмотр… Прозевали… Простите…
Опешившего Николая спустили вниз. Полагая, что он арестован и его еще не бьют потому, что кругом зеваки, и шепот: «Сын Ворошилова. С нами едет молодой Ворошилов», — Николай покорно опустил голову и сказал:
— Что ж… Ведите!
И его повели. Накормили чудесным завтраком в обкомовской закрытой столовой. Одели в новенькое командирское обмундирование, но без знаков отличия. Вручили пузатенький конверт с деньгами. Прокатили по городу в машине. Заставили расписаться в Золотой Книге почетных посетителей города. И, наконец, доставили на вокзал, к подножкам спального вагона сибирского экспресса «Владивосток — Москва».
— Будете говорить с Климентом Ефремовичем, так не жалуйтесь на недосмотр… Исправили, как могли!
И все по очереди назвали свои фамилии — и все добчинские и бобчинские.
Приход поезда в Омск Николай проспал. Вдруг чувствует, кто-то почтительно трогает за рукав. Открывает глаза со страшной мыслью: «Нашли по телеграмме из Маротделения… Пропал!» Но смотрит — а кругом все они, опять те же улыбающиеся добчинские и бобчинские. Тут уж Николай вспомнил «Ревизора» получше и сразу же словами Хлестакова (самого разбирал смех!) намекнул, что в дороге поиздержался и кормили его всюду плоховато — какие-то перья в супе… Омичи не подвели: все подали — и икру, и деньги, и Золотую Книгу. В Челябинске театральная постановка оказалась тоже на уровне, и в Москву Николай прибыл вполне довольным российскими порядками.
Выяснилось, однако, что отец командует Ленинградским фронтом, и что ему не до сына. Новые друзья из военной комендатуры предложили временно работать у них. Николай согласился. И тут-то его и поймала телеграмма из Мариинска.
Точно неизвестно, что стали бы делать николаевские городничие с гоголевским Хлестаковым, но сталинские поступили только так, как могли поступить: они признали в Николае гитлеровского шпиона, подосланного убить любимого наркома, друга Иосифа Виссарионовича, незабвенного героя Первой Конной.
Николая били железными прутьями. Один удар пришелся по щеке и разорвал ее надвое. Через час ему объявили, что ночью, если он до этого не умрет, ему покажут еще кое-что. Не любопытствуя и не обременяя друзей по пустякам, Николай сознался во всем, получил 25 и был направлен обратно в Мариинск. Оттуда его срочно сунули в Суслово — там, мол, народу меньше, а контроля — больше. Николай начал работать в бригаде, потом стал бригадиром, потом учетчиком, потом… потом проезжий контролер прочел его дело и направил в БУР.
Имени и фамилии Нахаленка я не запомнил. Беда, когда в лагере к человеку приклеится какая-нибудь кличка, — он делается безымянным. Конечно, — Гоголь тому свидетель, — меткое русское словечко запоминается лучше казенной фамилии, но для автора воспоминаний все же печально, что многих людей он запомнил, так сказать, неофициально.
Нахаленок был миниатюрным двадцатилетним белобрысым пареньком, не карликом, но просто хорошо сложенным человечком как будто бы детского роста. Смазливое розовощекое личико его всегда имело лисье выражение. На первый взгляд он был весельчаком, хитрецом и балагуром. Но только на первый взгляд. Нахаленок обладал редкостным каллиграфическим почерком — он лепил ровные строки как будто бы печатных букв со скоростью обычного письма. Хорошо считал. Любил во всем порядок (и сам был очень опрятным). Держал язык за зубами. Словом, это был божьей милостью секретарь для лагерного начальника или нарядчика, и многолетнее пребывание безграмотного Мишки Удалого на должности нарядчика было возможно только потому, что учетчиком при нем все это время состоял Нахаленок: какие бы грешки ни водились за Мишкой, но отчетность у него всегда была великолепной.
Нахаленок сел в возрасте двенадцати лет. Дело его было несложным. Отец, донской казак, вернулся с фронта с пулевым ранением легких. Начался туберкулез. НЭП поддержал здоровье, но коллективизация сгубила: птицу отец прирезал, скот забрали, а из-за сада начались распри с председателем, бывшим матросом. Деревья в саду пересчитали, то отбирали, то возвращали, то проводили по саду извилистый заборчик, деливший дедовское добро на свое и чужое. Георгиевский кавалер волновался, чахнул и умер в саду от горлового кровотечения после очередной перепалки с председателем. Потрясенный мальчик упал в обморок прямо на окровавленную траву, убитые горем мать и тетки о нем забыли. Но к вечеру он пришел в себя, зарядил старую фронтовую винтовку и подкрался к дому председателя. Тот как раз сидел у окна, читал газету и пил чай. Мальчик положил тяжелую винтовку между стволом и веткой вишни, получше прицелился и убил человека, которого считал обидчиком отца. Ему дали «террор» и двадцать лет, а всю семью выслали, и она потерялась в сибирских лесах. Из белокурого голубоглазого мальчика в лагерных условиях вырос Нахаленок, правая рука Удалого и смертельный ненавистник Советской власти.