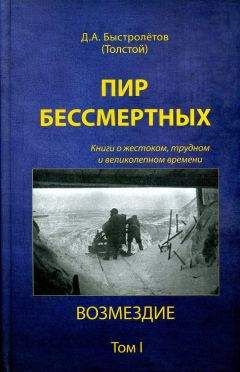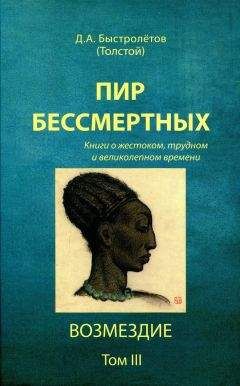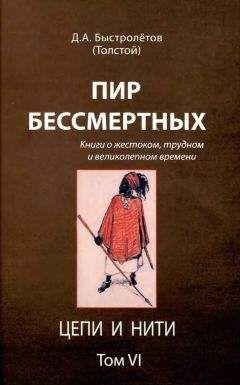Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
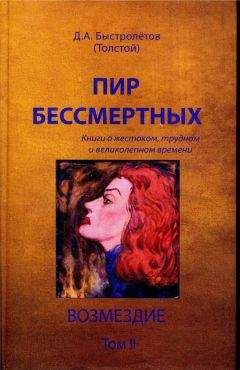
Обзор книги Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.
«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великолепном времени».
Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.
Д.А. Быстролётов (Толстой)
ПИР
БЕССМЕРТНЫХ
Книги о жестоком, трудном
и великолепном времени
К 110-летию со дня рождения Дмитрия Александровича Быстролётова
На обложке: Д.А. Быстролётов. Анечка (акварель). 1943 год
В оформлении форзацев использованы работы Д.А. Быстролётова
Всё живое на земле боится смерти, и только один человек в состоянии сознательно победить этот страх. Перешагнув через страх смерти, идейный человек становится бессмертным, в этом его высшая и вечная награда.
Смертных на земле — миллиарды, они уходят без следа, для них опасности и тяготы жизни — проклятье, для нас — радость, гордость и торжество!
Борьба — это пир бессмертных.
Дмитрий Быстролётов (Толстой)
Книга пятая. Путешествие на край ночи
Notre vie est un voyage Jusqu’au bout de la nuit.
Nous cherchons notre passage АГenter ou hen ne luit!
Наша жизнь — это путешествие на край ночи. Мы ищем путь сквозь ад, где нам впереди
не светит ничто.
Из боевой песни швейцарских наемников XV векаПредисловие
Зимой 1942 года, на четвертом году заключения, я получил извещение, что на воле умерли моя мать и жена. Их смерть стоит в прямой связи с моим арестом: их загнали в могилу те же самые люди, которые повинны в том, что я был необоснованно арестован и реабилитирован «за отсутствием состава преступления» только на восемнадцатом году заключения. Осенью 1942 года я встретил в лагере женщину, которую полюбил за то, что она стала для меня светильником в ночи — моей женой, помощником и другом. Ее муж умер в заполярных лагерях, так и не успев дождаться пересмотра выдуманного «дела». Отбыв второй срок, жена дожила до реабилитации, будучи уже полным инвалидом. Таких примеров мы видели вокруг себя множество и сделали общий вывод: злодеяния сталинского времени в смысле количества отнюдь не исчерпываются десятками миллионов арестованных и умерщвленных, нет, чтобы правильно понять и оценить историческое значение пережитого, необходимо учесть и гибель родственников на воле, честных и полезных Родине людей. Они были настолько невинны, что даже организованный Сталиным аппарат истребления не счел нужным применить к ним меры открытого насилия. И все-таки они погибли потому, что приведенная тогда в движение гигантская мясорубка перемалывала не только брошенных в ее жерло людей, она сама втягивала тех, кто находился поблизости.
Эта книга моих записок посвящена обстоятельствам жизни и смерти первой жены. Пример обычный, в той или другой форме такие воспоминания могли бы написать, к сожалению, многие и многие советские люди. Некоторые же фамилии и географические названия мне пришлось по указанным ниже причинам изменить, но дело не в них. И даже не в моей жене. Нет Эта книга мыслится мне, бывшему заключенному сталинского времени, как надгробный венок всем нашим родственникам, вместе с нами прошедшим скорбный путь до края ночи.
Глава 1. Первая любовь
Quelle vertigineuse douceur — Atravers ces levres nouvelles,
Plus epatantes et plus belles,
T’infuser mon venin, ma soeur!
Ch. Beaudelaire
Какое головокружительное наслаждение
Через эти новые губы,
Более волнующие и прекрасные,
Передать тебе мой яд. О, моя сестра!
Ш. Бодлер (фр.)Тринадцать закопченных труб и тяжелые клубы дыма, медленно ползущие по низкому небу, вот все, что видел я каждое утро из окна своей комнатки под крышей большого и холодного дома. Это была рабочая окраина Праги. Год двадцать третий.
Проснувшись от протяжного рева гудков, я подолгу глядел из окна вниз, туда, где по тесной и кривой щели улицы в безотрадной мути рассвета бесконечно тянулись черные вереницы рабочих. Одевшись, я садился на кровать и напряженно думал, куда бы пойти в поисках хлеба. Средства к существованию давали мне рытье могил на кладбище и уроки, но добыть их в этом светлом и прекрасном городе было нелегко.
Все свободное от уроков время поглощало слушание университетских лекций и занятия в государственной библиотеке: я работал над серией статей, которые не приносили дохода, но нужны были потому, что в ходе размышлений над ними росло и утверждалось новое мировоззрение, жить с которым казалось легче. Потом наступал вечер. В одном магазине хозяин давал мне обрезки мяса и колбасы, в другом — непроданный черствый хлеб. На маленькие и такие дорогие серебряные монетки я прикупал себе кое-что и к наступлению темноты успевал дотащиться домой.
Сняв костюм, чтобы не мять его, садился на кровать и раскладывал на старой газете пищу. И ел, думая о другом.
Денег на освещение не хватало, и после еды оставалось только глядеть в окно на отблески заводских огней и на черные силуэты труб. Обычно в это время начиналась туберкулезная лихорадка, и возбужденный ею мозг уносил меня беспредельно далеко. Может быть, это и были мои лучшие часы: иногда я декламировал любимые стихи, но чаще всего громко спорил с воображаемым противником. В таком споре рождались новые, остроумные и блестящие мысли. Довольно потирая горячие руки, я ходил по комнатке и собирал удачные фразы для следующей статьи о Ницше и Ленине, о добре и зле, о рождении нового человека, который здесь, на обновленной и переустроенной земле, будет богом. В часы этого одинокого торжества на окраине города мне казалось, что я нужен людям потому, что могу сказать им новое слово. Равнодушный мир представлялся мне тогда твердыней, которую надо взять с боя, и я верил в свои силы и в коллективную мощь тех, кто пойдет рядом со мной. Наконец наступала ночь, в изнеможении я падал на постель и долго лежал с открытыми глазами: чудилось, что штурм неба уже начался, в тяжелом грохоте заводских молотов гремела для меня героическая симфония восстания, колыханием победных знамен казалось кровавое зарево печей…
Уронив голову на горячие руки, я мечтал о времени, когда не будет больше ни борьбы, ни обреченных на гибель и новые люди не узнают ужасов бедности и одиночества. Потом мысли начинали путаться, и наступал тревожный сон. В полночь я поднимался и шел на работу на кладбище.
А утром, открыв глаза, видел опять все то же тяжелые клубы дыма в низком небе и тринадцать закопченных труб.
— Ну как, ушел этот оборванец… как его… учитель русского языка?
Голос звучал звонко и резко, как металлическая струна. Это воспитательница двух девочек господина Фишера, молодая англичанка. У нее бледное лицо и очень блестящие глаза.