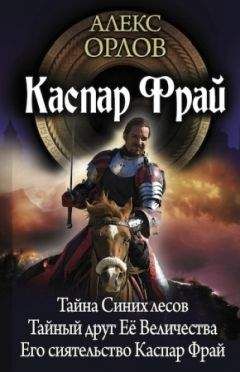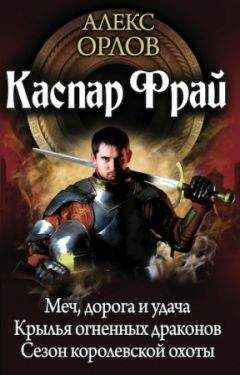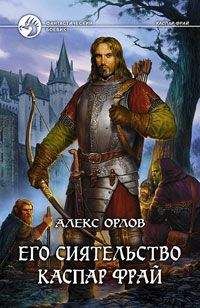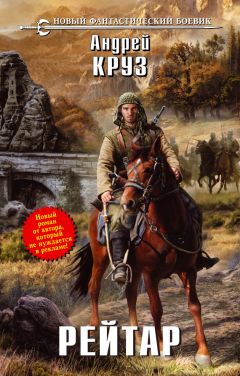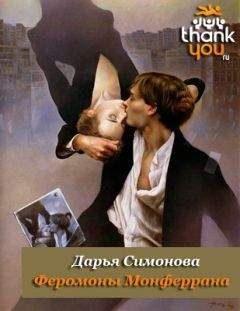Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
Такие слова сказал некоторый человек без картуза, в опорках вместо сапог, и в красном разводистом, хотя совершенно отрепанном, халате. Он стоял на крыльце единственной харчевни девственной улицы и, осторожно постукивая в ее еще запертую дверь, говорил:
– Отопри, Христа ради! иззяб весь! А то др-р-рова!..
– Я тебя ей-богу пущать перестану, – послышалось сквозь харчевенную дверь. – Что это на тебя угомону нет никогда?
– Пус-сти! – умолял халат, – дело такое есть: дрова вот вышел покупать, да рано еще!..
– Знаю я эти дрова! Ты бы вот, нескладный, праздники-то Господние получше бы соблюдал.
– Да что же праздники? Я и то их всегда… Будет, пусти! Железный болт загремел наконец в харчевне, и дверь отворилась.
– А ну-ка я погляжу, как он дрова покупать станет? – смеялось утро, все больше и больше налегая на девственную улицу и освещая ее. – Погляжу, погляжу я на это дело, – повторяло утро, расцвечаясь с каждым своим словом все яснее и яснее какой-то необыкновенно доброй, как бы сквозь слезы смотревшей, улыбкой.
И полагаю, что свет этого утра, упадая на злые же и праведные, говорил своей улыбкой и тем, и другим такую речь:
– Делайте, делайте, люди, что можете! Не смотрите на мой смех над вами, – не глядите, что я такое смешливое. Всех я вас обойду ровно, всякого в точности огляжу, и когда сменит меня темная ночь, я уже буду говорить в это время Царю Небесному про дела ваши, и он воздаст вам за те дела, сами вы знаете как!..
Так воздаст, – прибавляло утро, – что возрадуется добрый и заплачет злой.
Встречайте же меня, люди, каково бы я ни было: с грозной ли бурей схожу я к вам, или при тихом дыхании утренних ветров, убранное в золото ближних к встающему солнцу облаков, бужу я уснувший мир, – встречайте меня и радуйтесь, потому что там, откуда я к вам слетаю, зла нет и, следовательно, я с собой на землю его не вожу…
III
Человек в красном отрепанном халате и без картуза, первый возмутивший тишину описанной сейчас ночи своим ранним стуком в дверь харчевни, был Кузьма Сладкий – сапожный подмастерье, такая головица{282}, про которые говорят, что их дело – убить да уехать.
Лютая головица задалась!.. Каблуки он у барских сапог такие вылащивал, что франты-заказчики смотрели на них и вздрагивали. За одно только это дело хозяева и держали его, потому что держать его без этого умения решительно сил не было.
Мрачным, небритым и необыкновенно черным сидит Кузьма в хозяйском подвале за своими каблуками и никому по целым неделям слова не скажет, и только слышно, как это состукивает он вонючую кожу в красивые кружки, намазывает и намасливает их, обдувает, подносит к маленькому, чумазому оконцу и пристально всматривается, как убогий солнечный луч, нищим забиравшийся в это оконце, отражается и играет на его рукоделье.
– Готова работа, что ли? – вбежит, бывало, хозяин со спросом про какой-нибудь № 43.
– Готово, – отвечают ребята, – только вон Кузьма каблуки отчищает.
– Скорее, Кузя, голубчик! – взмолится хозяин, – прислали.
Шваркнет Кузьма сапоги на грязный пол и прорычит: «Бери, да отваливай к черту!» – потом снова застучит молотком, заваксит и угрюмо замолчит до нового спроса, сморщивши густые черные брови.
Видят хозяева прилежание Кузьмы и, как только артели предстоит двинуться к обеду, ежесекундно и судорожно ожидаемому постоянно голодными желудками, – хозяйка, наученная мужем, сейчас и манит Сладкого за перегородку.
– Кузьма Иваныч! – ласково говорит она, – подь-ка сюда: дельце у меня до тебя есть.
– Не пойду! – отвечает Кузьма по-медвежьи.
– Что ж так?
– А так и не пойду! Думаешь, водки твоей не видал, что ли?
– Да я не насчет эфтово, а вот разговор такой…
– Што врешь-то? Жаль тебе всем поднесть, так ты меня одного потихоньку зовешь… Не пойду!
И не пойдет Кузьма Иваныч. Ни за что и никогда нельзя было упросить его пожаловать на потайную выпивку.
– Рази я краденый, что ли? – справедливо рассуждал он в таких разах.
Случалось, впрочем, что хозяева, избегая конфуза пред артелью, говорили: «Да что же, Кузюшка, ты так полагаешь, как быдто мы т. е. жадны? Мы и всей артели поднесем. Простоту нашу ты, кажется, видишь и знаешь. Будем всем сейчас подносить, потому, что ж, рази вы нам не все любы?»
У других мастеровых замирали сердца при таких хозяйских речах, а Кузьма, не меняя своего обычного бычиного вида, свое толковал:
– Знаю, все знаю! Только я уж теперь пить не буду, – и при таких словах глаза его, всегда стеклянные и серьезные, загорались таким-то блеском ненависти, решительно непонятно к кому и за что обращенной.
Пробовали некоторые из хозяев, какие, по новости, не знали Кузьмина нрава, в навяз его потчевать.
– Да выпей, Кузьма Иваныч! – приставали к нему русские расщедрившиеся души. – Ну, и скупы ежели были, не попом ни – выпей!..
Хозяин, ежели был в эту минуту в заложении, так обыкновенно целоваться лез, а хозяйка стояла пред капризным подмастерьем с почтительной улыбкой, с вытянутой рукой, в которой так заманивающе светлелась эта здоровая, мастеровая рюмчища, прозванная: «в самую плипорцию»{283}.
И ежели такие приставания длились больше того, чем могло их вынести ретивое сердце, так Кузьма с большим стуком бросал на стол кленовую ложку с недохлебнутыми щами и уходил вон из дома, не показываясь обратно по целым неделям. Пьянствовал он в такие времена, по рассказам молодцов, так, что чертям тошно делалось. И тут проделывал он всякие шутки, чтобы только показать хозяевам, что, дескать, ну вас ко всем дьяволам и с водкой-то вашей! Я и на свои могу обожраться до смерти.
И достоверно известно, что во время Кузьминых запоев по девственной улице могли раздаваться только одни его, каким-то необыкновенным горем и отчаянием обуянные, песни. Бешеные взвизги только его одной гармоники, сопровождаемой разбойничьим свистом, гайканьем и топаньем, заносились в тихие дома захолустья, потому что ни с кем не сносил тогда наш молодец никакой супротивной встречи: ни в кабаке, ни у родни, ни на улице.
– Держись крепше! – орал Кузьма какой-нибудь другой песне или гармонике. – Расшибу, – один я по этой улице пройтиться желаю!..
Давались тут и Кузьмой, и им самим получались самые зверские трепки. С треском ломались так называемые девятые ребра, никогда уже не появлялись на голове вырванные с корнем вон волосы, а оставшиеся безвозвратно седели: беспощадно, словно зубами голодного волка, растерзывались нежные хрящи ушей, скусывались носы, а деньжонки, или заработанные у хозяина, или выканюченные в пьяном виде у хорошего барина за хорошие каблуки, или наконец даже сворованные, уходили вместе с гармоникой, с халатом и пожалуй что с сапогами к будочникам, натолкнувшимся случайно на молодецкую сцепку.