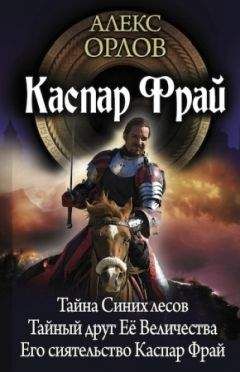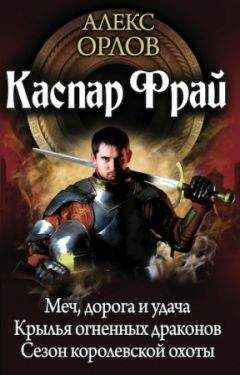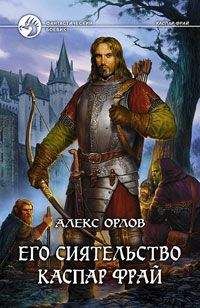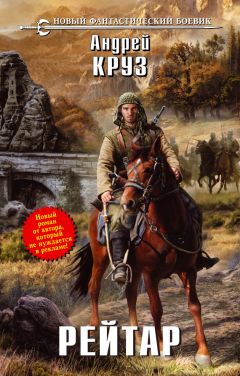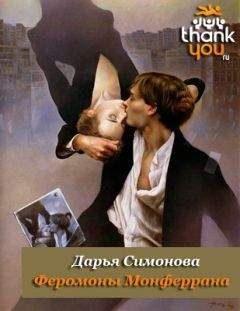Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
Тихо улыбался тогда Федосей Иваныч, глядя на смирного, хворого сына, и шептал про себя:
– Вот бы его теперича туда – в нашу сторону… Как бы это он там справился – любопытно?.. В самом деле, не бросить ли все это?.. Грамоту бы одну оставить, да письмо, да на щотах… Ведь вот я же вырос, человек есть теперича без сидения без эфтого. Пра!.. Ай бросить?.. Брось-ка покамест, Петушок, науку-то! Пойдем с тобой в ряды. Ты у меня лошадью править будешь…
Едут они с сыном к шумному городу – и ничуть ничего не видит и не слышит из всей этой суетливой, столичной жизни Федосей Иваныч, потому что дума о сыне всего его обняла собой.
– Ах ты отец, отец! – шевелят губы Федосея Ивановича неслышные никому, кроме него, слова. – Тоже отцом называется, а пользы своему детищу не может понять. Благо достаток Господь послал, так учи, потому что же? Рази сын-от у тебя таким же слепым должен быть, как ты? Ведь ты-то про своих родителей и слухом-то не слыхал. Ну-ка, скажи: где у тебя родители?.. Вот и нет их, да и были ль, право?.. Нет, нет, Петя! – вслух уже суетил он сына, – ступай-ка, ступай-ка домой скорее – учись! Терпи!.. Я вот, видишь, терплю же… У меня вон и родителей-то не было. Уж как я от этого терпел – уму непостижно!.. А у тебя, слава богу, все готово. – Учись знай. Все тебе родитель твой предоставил…
С горькими слезами поворачивал мальчик отцовскую двуколеску назад к стеклянному подъезду, чтобы снова приняться за учение и терпение, а Федосей Иваныч, обходя свои многочисленные лавки, все думал:
– Н-нет! Ежели он у меня, как следует, науку произойдет, я ему тогда большой ход дам. Что, в самом деле, все купец да купец?.. Я его тогда в гусары, в царскую гвардию отдам… Ей-богу…
И, разговаривая с приказчиками, Федосей Иваныч в такие времена до того даже доходил, что где, кого следует, ругнуть бы надо, пристращать, а он все улыбается, потому что мерещутся ему все какие-то страшные битвы. Гремят пушки, пехота это с штыками движется, а тут пыль страшная поднялась, и, разбивая эту пыль золотом своих мундиров, скачет на врагов царская гвардия, впереди же ее, всех храбрее, мчится он – Петруша его с саблей наголо…
– За веру, царя и отечество! – слышится отцовским ушам командирский голос сына.
– Вот так-то! – вполголоса говорит Федосей Иваныч. – Вот тебе и купцы!..
– Чево-с? – осведомляется стоящий против хозяина главный приказчик.
– Знай ты свое дело! – громко уже вскрикивает купец. – И што только вы ко мне завсегда пристаете?
– Слушаю-с! – отвечает приказчик и ищет что-то под прилавком, взглядывает на верхние полки, подставляет даже скамеечку, как бы намереваясь достать оттуда что-то решительно необходимое, потом гулко встряхивает гремучими косточками щотов и сам вздрагивает, потому что Федосей Иваныч тоже вздрогнул от этого неожиданного стука и почти с плачем вскрикнул: «Варвар! Что ты со мной делаешь? Когда ты мне спокой дашь?» – и побежал вон из лавки.
– Что он, черт? – спрашивают друг у друга сидельцы в большом недоумении.
– Должно, запил опять.
– Да ведь не слышно запаху-то.
– До черт его услышит! Небось тоже заедает чем. Ты, что ль, один заедаешь-то?..
Но не запил Федосей Иванович. Пред его глазами, тотчас же после битвы, в которой так отличался его сын, пошла другая картина: черным бархатом завешены мрачные церковные своды. В церкви стоит пышный гроб, около гроба высокие серебряные подсвечники с бесчисленным множеством восковых свечей. Свет от них льется на белое, навсегда угасшее.
Торговец гречневиками. Гравюра К.-Г.-Г. Гейслера из книги М. И. Пыляева «Старая Москва». Государственная публичная историческая библиотека России
– Что ты? – я его спрашиваю.
– Ах! Уйди, – говорит, – не до тебя мне теперича!.. – И ведь чудак какой! С таким это он сердцем сказал, словно бы я его по головяшке кулаком ошарашил…
Так одна дума беспрестанно сменялась другой в голове Федосея Ивановича во все то время, в какое вырастал его единственный сын и наследник, и сообразно с тем, какова была дума, дурная или хорошая, отец то грозил сыну, а подчас даже и тяжелую руку накладывал, то ласкал его всячески, увольняя от учения и позволяя делать все, что только входило в ребячью голову. Таким образом, случилось то, чему неизбежно следовало случиться: какая-то унылая и почти всегдашняя покорность Петруши вдруг иногда, бог знает почему, превращалась в самую буйную удаль, и тогда, по выражению приживальщиков богатого купецкого дома, от чертенка житья никому нигде не было.
– Тятенька-то вон терпит!.. Ну, и вы терпите! – оправдывался мальчуган пред униженными и оскорбленными его буйством. – Тятенька у нас один; он нам всем хлеба кусок добывает…
Минуло шестнадцать лет Петруше, и тут он сошелся на дворе с одним глупеньким пареньком из мещан, уже взрослым. По сиротству его купец у себя в доме призрел.
– Ах, сударь! – как-то заговорил паренек с молодым хозяином. – Мы ведь с вами тезки, ей-богу.
– Как тезки?
– А так! Вас вот теперича Петром Федосеичем величают, а меня Петром зовут.
– Ну, что же?
– Да то-то! У нас вот тут по соседству, у господ, горничная живет, Лизой звать, так они вам кланяться приказали. Говорит: «Петр, а Петр! поклонись своему барину молодому. Я в него оченно влюблена…» Так и сказала. И как она тут от меня бежать принялась!..
– Это стыдно так разговаривать! – строго, но почему-то стыдливо проговорил Петруша.
– А какой тут стыд? А ей-богу ничего! – заверял парень (белокурый он такой был, угреватый, глаза большие). – Мне вот самому тоже говорили, – стыдно, а ничего. Я теперь вино, сударь, так-то пью, так-то я его полюбил. Я – беда! Я вам, пожалуй, поднесу…
Жара и пустота страшные томили в это время широкий, вымощенный плитами, купеческий двор. Ни одной души, кроме ребят, ни из одной щели не было видно. В теплом воздухе пахло каким-то тайным, тайным секретом, так что вздрагивалось молодому телу и ходили по нему то горячие, то холодные струйки.
– А что, в самом деле, – подумал Петруша, – какое оно такое вино-то?.. – И затем он уже вслух сказал:
– Ну, давай, подноси! Только кабы нам песни с него не заиграть – а?
– Эва! чего вы, сударь, боитесь. Это вот с первака-то вам будто боязно маленечко, а то ничего, потому это все привычка…
Господи! как же драл Федосей Иванович будущего болярина Петра, когда узнал про его первую выпивку!..
– Так драл, не приведи Мать-Царица Небесная! – сначала с ужасом рассказывала по соседству купеческая прислуга; а потом, когда картина дранья представлялась рассказчикам во всей своей полноте, так они хохотать даже принимались и договаривали. – Семь возов хворосту исстегал, семь шкур сразу спорол… Вот как! Ха-ха-ха-ха!