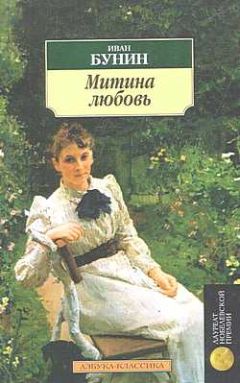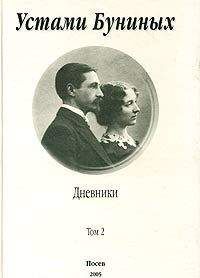«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Но летом, если нет ветра, знойно. Так знойно, что вилла с утра стоит с закрытыми окнами и ставнями – единственный способ спастись от жары. Безжалостное солнце горячими потоками заливает серебряные оливы и напрасно старается высушить как бы вырезанные из темно-зеленой жести агавы; камни нагреваются солнцем так сильно, что до них нельзя дотронуться рукой. Хорошо, кажется, одним ящерицам, которые замирают на горячих камнях, и цикадам – они стрекочут тем сильнее, чем жарче день. В эти знойные дни Бунин прячется не только от жары, но и от света, – он принимает все возможные меры, чтобы изнутри укрыться от солнца, вплоть до заклеивания всех щелей бумагой. Только спрятавшись от всех внешних впечатлений, может он работать летом. И только вечером, перед закатом солнца, все выходят на площадку перед виллой, под гостеприимный кров бельведерской широколистой пальмы, где садятся за ужин вокруг вынесенного из столовой стола.
Лучшее, пожалуй, здесь время года – поздняя осень. В эти осенние дни воздух особенно тих, легок и прозрачен – утра длятся дольше обычного. Тени легки, солнце ласково. Море кажется ближе, и от него будто веет приятной прохладой.
В зимние месяцы бывают дожди – это самое грустное время в Провансе, потому что дожди иногда длятся неделями. Тогда все настраиваются на зимний лад и любят сидеть по вечерам вокруг железной печки в большой комнате самого Бунина. По ночам бывает так холодно, что никак не удается согреть, как следует, каменную лестницу, ведущую во второй этаж. Но и в зимние месяцы выпадают чудесные дни, когда солнце не только светит, но и греет. Такие дни – не так уж и редкие на благословенном юге – кажутся чудесным подарком судьбы, который принимается с благодарностью. Тогда надо надевать летние костюмы, но немедленно облачаться в пальто, когда солнце прячется. Переходы от дневного летнего тепла к вечернему и ночному зимнему холоду кажутся удивительными.
В дружеских литературных кругах виллу “Бельведер” зовут “монастырем муз”, потому что работает в ней не только Бунин, но и его жена, Вера Николаевна, и молодые писатели, которые всегда живут с ними. Трудно и вспомнить всех, кто побывал под широкой пальмой, за чайным и обеденным столом “Бельведера”. Мережковские, Тэффи, Борис Зайцев, Алданов, Ходасевич, Рахманинов, проф. Ростовцев – и многие, многие другие поднимались по каменистой тропинке к вилле на денек, на два, а то и на месяц и больше, потому что Бунины – хозяева гостеприимные и радушные. Встает Бунин рано, когда солнце еще низко, любит умываться на воздухе, у крана в саду. Все утро работает в своей комнате. Выходит только к почте около двенадцати часов, когда снизу из города поднимается почтальон с газетами и письмами. После завтрака опять за работу до чая. Иногда прогулка куда-нибудь – вниз, в долину, или вверх, в горы, через площадку принцессы Полины, сестры Наполеона, жившей когда-то в Грассе и любившей сидеть на сохранившейся еще от ее времени каменной скамье… Но иные дни Бунина не видно совсем – безвыходно работает в своей комнате. – “Писательство – труд, труд усердный и каторжный”, – любит повторять Бунин, и в отношении его самого это не кажется преувеличением, если знать распорядок его жизни. Вечером он любит читать вслух. Тогда все население дома – в его комнате. Мирно горит свет, в зимние вечера гудит печка, сидят – кто на диване, кто просто на кровати. Читает Бунин русских, читает и французов – среди последних Мориака, которого очень любит. Слушать Бунина одно наслаждение, потому что чтец он изумительный. Эти тихие идиллические вечера напоминают чем-то далекое время, когда коротали время в деревенской русской глуши помещичьи семьи…
Кто-то сказал про Бунина, что “у него лицо римлянина-патриция”. И действительно, его красивое и породистое лицо со строгими чертами кажется чуть ли не олимпийским, почти надменным. И это как будто вполне отвечает его гордому таланту, тому пронзительному и холодному воздуху, напоминающему разреженный воздух горной вершины, который как будто пронизывает его литературные произведения. Такое впечатление и он, и его литературные работы производят на тех, кто с ними только соприкасается. Но если подойти к Бунину-человеку ближе, если глубже вникнуть в его литературные произведения, впечатление меняется. Перед нами живой и искрометный человек, горячий и вакхически неукротимый в веселье, страстно любящий жизнь и ее блага, charmeur и очаровательный собеседник. Не случайно нежно и крепко его любил Чехов, человек большой скрытой нежности и искренности. Что всего больше поражает в Бунине, это его необычайная многосторонность, артистичность его натуры. Недаром руководитель Московского Художественного театра, знаменитый Станиславский, звал его когда-то в театр. И весьма возможно, что, если бы он не сделался знаменитым писателем, из него вышел бы замечательный актер. Он еще и сейчас может поразить каждого, то изобразив цыгана на ярмарке, то подвыпившего помещика, приехавшего кутить в маленький город, то разrулявшегося на деревенской ярмарке мужика, неожиданно пустившегося вприсядку (здесь Бунин, просматривавший настоящую рукопись, не удержался и прибавил на полях: “Mapиyca из Марселя еще лучше могу” – Mapиyc – популярный среди французов тип южанина, добродушного хвастуна, говорящего на особом марсельском наречии). Танцует, кстати сказать, “русскую” Бунин с артистической легкостью, так хорошо идущей и приставшей к его доныне положительно юношески стройной и легкой фигуре. Поражает при этом, что свой эффект преображения он достигает какими-то как будто совершенно ничтожными усилиями: прищурит глаз, дернет щекой, поведет чуть-чуть плечом – и перед вами вдруг не Бунин, а знакомый, которого он хочет изобразить. И самое преображение или перевоплощение у него происходит, по-видимому, самопроизвольно: рассказывает, что в юности изучал польский язык и читал Мицкевича, и вы вдруг чувствуете в его великолепной полнозвучной русской речи легкий польский акцент; отдастся в беседе литературным воспоминаниям – и вдруг перед вами проходят Горький, Брюсов, Блок, Бальмонт…
Способность импровизации у Бунина органическая – неожиданные сравнения, краткие и яркие характеристики, острые – иногда и пряные – словечки срываются с его языка, как будто от богатства натуры, как будто он не может удержать их в себе. Когда Бунин в ударе, он щедро сыпет ими, вызывая в окружающих дружный смех. Они вылетают из него, как искры, и только жалеешь, что нет возможности все запомнить, записать. Иногда кажется даже, что в жизни он талантливее, богаче, ярче, чем в своих произведениях. Это и не удивительно, так как все на бумаге он тщательно и много раз отделывает, благодаря чему все им написанное строго, а для невнимательного человека даже сухо. В строгости его работы я мог убедиться однажды на следующем. Гостя у Ивана Алексеевича в Грассе, на его вилле “Бельведер”, я жил в его рабочем кабинете. На полке увидал книги Бунина разных изданий. Просматривая их, я заметил много собственноручных исправлений в тексте. И, сравнивая их, убедился, что все исправления состояли из одних лишь сокращений – он удалял из текста все лишнее, все, без чего можно было обойтись. И я вспомнил завет Чехова молодым писателям. – “Из написанного рассказа, – говорил Чехов, – прежде всего вычеркните начало и конец – оставьте только середину. Потом просмотрите каждую строчку и вычеркните все, без чего можно обойтись. Оправдано должно быть каждое слово – если в вашем рассказе упомянуто, что на стене кабинета висело ружье, это ружье обязательно должно выстрелить”. Бунин, несомненно, следовал этому завету – в его произведениях никогда нет ничего “лишнего”. Отсюда – крепость, убедительность и некоторая “сухость” – вернее, строгость – его языка. На его страницах, воистину, словам тесно, мыслям просторно. И поэтому читать Бунина надо медленно.
В личных рассказах добавьте к этому живую интонацию, прекрасный язык, богатство вместо скупости, игру лица, блеск глаз – и вы поймете, сколько очарования может быть в его живых рассказах. Я всегда мечтал о том, что кто-нибудь из близких Ивану Алексеевичу догадается записывать живую речь его, его рассказы, мгновенные характеристики, сказанные мимоходом словечки. Если это не сделано, многое о Бунине пропадет для позднейших поколений, – всего Бунина не смогут передать его произведения. В свое время я пробовал делать такие записи: рассказы о Чехове, его жизни в Крыму и его женитьбе, о поездке Бунина с Шаляпиным и Горьким (какая тройка!) по Италии, о “Войне и мире” и “Анне Карениной”, о Достоевском – все это осталось и, вероятно, погибло в Европе…