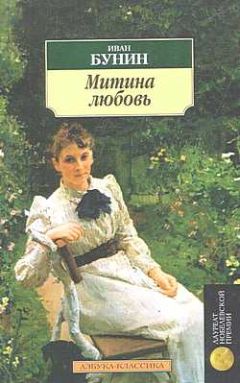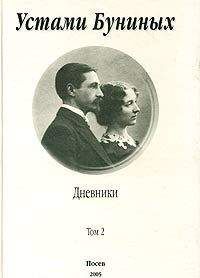«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Ниже приведены выдержки из некоторых дословных записей бесед с Буниным того времени. Они позднее были просмотрены им самим, а потому с полным основанием могут считаться авторизованными.
– Вы хотите знать мою духовную родословную? Ну, этого я не знаю и даже не понимаю. Я не раз слышал мнение, будто происхожу от Толстого и Тургенева. Почему именно от них? Был Пушкин, был Лермонтов, Гоголь… Как можно проследить влияние одного писателя на другого? Кого любил, тот на тебя и влиял. Важна у каждого своя нота – она или обогащается или развивается. И влияет не только литература, но и жизнь. Некоторые говорят, что у меня реализм от Толстого, а словесная форма от Тургенева… Неверно. Разверните Тургенева и рядом положите мою книгу – у Тургенева звуковое течение речи, ее строй – один, у меня – другой, совсем не похожий. И разве Тургенев не реалист? Конечно, реалист. Если же он описывает своих героев и героинь более мягкой, романтической манерой, если его Лиза романтичнее Наташи, то это лишь свидетельствует, что два разных человека пишут два разных портрета. Я пишу более крепкой краской, чем, напр<имер>, Тургенев, – вот и разница. Один изображает мягче, другой – резче.
– И неверно, будто Толстой не придавал значения тому, как у него звучит фраза, не обращал внимания на форму. Между прочим, и стихотворную форму он отрицал лишь позднее. Форма неотделима от содержания, форма есть последствие, порождение индивидуального таланта и того, что он хочет сказать. Я видел рукопись и корректуры “Хозяина и работника” – так ведь он чуть не сто корректур держал! Кажется, Страхову писал или чуть ли не верхового посылал по поводу запятой или замены “а” на “но”. Нет, Толстой придавал огромное значение, как фраза звучит, и очень заботился о расстановке слов. О внешней форме у него была страшная забота, но только он понимал это иначе. Другой сознательно занимается аллитерацией, подбирает, например, шипящие слова и буквы, а Толстой никогда не обращал внимания, шипит или рычит у него фраза. А если это и происходило, то было результатом подсознательного, как и у народа, когда складывается язык. Однажды мы заспорили с Бальмонтом. Он сослался на пример Пушкина, который будто бы намеренно прибегал к аллитерации… Но ведь это происходило у него бессознательно! Вспоминая, Пушкин слышал, чувствовал шум деревьев и бессознательно выбирал такие слова, которые передавали этот лесной шум, тем самым напоминая переживание. И разве сами слова не так рождаются? Когда они рождались, люди не думали об этом. Сам народ создавал звукоподражательные слова. Так и Толстой слышал, что фраза должна быть такой, а не иной… У Толстого есть корявые фразы, это всем известно, есть и грамматически неправильные, но неверно, будто он сам свою фразу рубил, если ему казалось, что она слишком красива. Да я и не знаю другого писателя, у которого бы так мало была заметна форма. Это – стекло, настоящее прозрачное стекло, которого не замечаешь. А это и есть высшее достижение. Читая Тургенева, наоборот, всегда чувствуешь форму, работу над фразой. Видишь, как она искусно построена, замечаешь, как расставлены знаки препинания. Знаки препинания – вещь очень важная! Надо знать и чувствовать, где следует поставить запятую, где – тире. Нельзя зря сыпать, например, многоточия, как это делает Короленко. А у Тургенева знаки препинания расставлены с манерностью – это отвлекает читателя…
– Конечно, как ни будь самостоятелен писатель, у него всегда можно найти сходство с другим. Люди без рода и племени не бывают. Все мы происходим от родителей. В ребенке ищут черты сходства то с отцом, то с матерью, с дедом, с бабушкой – конечно, все это должно быть в нем! В каждом ребенке есть смесь черт его родителей и предков – но есть и свое. Поэтому – может быть, Толстой, может быть, и Тургенев, влияли на меня. Но почему не Гоголь? Гоголя я страстно любил с детства, он навсегда вошел в меня какой-то частью. Я и сейчас наизусть помню места из “Старосветских помещиков” и “Страшной мести”, они меня и теперь, как всегда, волнуют. Гоголь, считаю, отразился на построении некоторых фраз – длинных периодов – в “Господине из Сан-Франциско” и вообще в этом периоде моей литературной деятельности.
– Достоевский? Толстой больше Достоевского. Вот уж могу сказать, что любить Достоевского никогда не любил. Перечитывал Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого (без конца!), даже Чехова, но вот никогда не тянуло перечитывать Достоевского. Конечно, писатель и человек он совершенно замечательный. Но я беру форму рассказа Достоевского. Что это такое! Он хватает вас за лацканы сюртука, за горло, загоняет в угол, брызжет слюной, старается, как в припадке, вас в чем-то ему нужном убедить и всё в одном и том же. – Да оставьте меня, ради Бога, в покое! Отстаньте! Я уже все давно понял – что же вы мне долбите одно и то же! – Достоевский прежде всего хочет на вас в о з д е й с т в о в а т ь и тем нарушает художественную эстетику. Ведь всякое искусство условно. Наденьте на Венеру юбку, пеплум, вставьте ей глаза, наденьте ей на палец золотое кольцо – что это будет? А Достоевский эти условия и нарушает. Диалоги у него занимают целый том – это же невозможно, невероятно, – хоть бы передохнул немного. Все у него чрезмерно, и поэтому я многому не верю. Убивает в Достоевском главным образом то, что написал он двадцать томов романов, и все они об одном и том же: всюду он сам, всюду электрическая любовь, инфернальная женщина, всюду Лебядкин или полусумасшедший-полуидиот! Мне мой брат Юлий говорил: “Когда вырастешь, будешь Достоевского читать – возьмешь, не оторвешься!” – И вот настало время – я был еще мальчиком – взял с замиранием сердца “Братьев Карамазовых”… Что же это такое? И это Достоевский? Первые 150 страниц заняты ссорами Федора Павловича, и на них 150 раз говорится одно и то же. Но мне достаточно и раз сказать, чтобы я понял…
– Правы те, кто меня причисляет к пушкинской линии русской литературы. Я изображаю, я никого не стараюсь ни в чем убедить – я стараюсь заразить. Пушкин – вот самая здоровая и самая настоящая струя русской литературы и стихия России. Европейцы удивляются, если находят в русском писателе уравновешенность, ясность, свет, солнечность. А разве все это не Пушкин? И разве не русским был Пушкин? Пушкин – это воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса. Подражал ли я ему? Да кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я – в самой ранней молодости подражал даже в почерке… Много, много раз в жизни испытывал страстное желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, – желания, происходившие от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых настроений, что Бог порою давал в жизни. Думал и вспоминал о Пушкине, когда был на гробнице Виргилия, под Неаполем, во время странствий по Сицилии, в Помпеях… А вот лето в псковских лесах – и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его ногам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас… А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю “Повести Белкина” и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней… Как же учесть, как рассказать о его воздействии? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной – и так особенно – с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас – отец, мать, братья. И вот одно из самих ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному, несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: