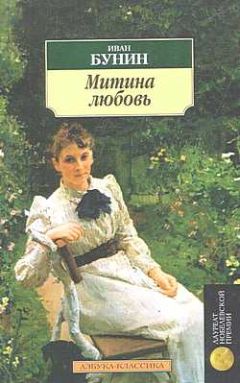«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
– Устал ужасно от своего турне. Везде чествования, люди. Домой хочу – во Францию. Прочту в Таллине и по домам.
Публика в вагоне нас узнала. Шушукались. Стало неприятно.
– Узнают, Иван Алексеевич.
– Вижу. Ну и Бог с ними.
– Подъезжаем. Итак, до завтра. Пойду в свой пролетарский вагон.
– Почему? Вместе выйдем из этого самого. Впрочем, у меня вещи. Хотя их и потом взять можно. Сейчас встречать будут.
– Оттого-то я и испаряюсь. Не хочу быть “сбоку припека”. Привык, чтобы меня самого встречали. Конечно, в новых краях…
– Ха-ха! Понимаю. Ну, как хотите. Заходите в отель.
– Нет, уж я лучше прямо на лекцию, а потом на банкете встретимся.
Владимир Зензинов
Иван Алексеевич Бунин
29 января 1920 года, на последнем уходившем из Одессы пароходе, И.А. Бунин покидал Россию, – в Одессу входили большевики.
“На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей, но наступающий враг еще робеет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще не полной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск и град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет…”
“Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось: всему конец. Чувствовалось, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполне беззащитен от вваливающихся в него победителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убийство, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни. В гopoде не было ни одного огня, порт был необычайно пуст, казался беcпредельным, – “Патрас” уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег… Мы уже двигались, – все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад… Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом…”
“Не раздеваясь, я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило – противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее… В полусне, в забытьи, я что-то думал, что-то вспоминал… Клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, отчаянно боролось – и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, тяжелым ударом и новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника… Вдруг я совсем очнулся, вдруг всего меня озарило необыкновенно ярким сознанием: да, так вот оно что, – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?”
“Конец, конец!”
К счастью, это не был конец. Это не только не был конец, как казалось Бунину в роковой день разлуки с Россией, – неожиданно для него самого это было началом нового периода его жизни, творческой работы, когда талант развернулся шире, глубже.
Жизнь как будто и в самом деле надо было начинать сначала – впереди сколько-нибудь определенного ничего не было. Неожиданно предложил ему читать лекции болгарский университет. – “О чем?” – “О чем сами захотите…” – И он, в самом деле, неожиданно для себя был утвержден профессором университета, но утверждение пришло, когда он был уже в Париже. Тянула к себе “столица мира”, средоточие русской жизни вне русских пределов. А главное – манила работа в любимой области, и он отказался от профессуры, хотя материально она его и обеспечивала. Решил устроиться на жизнь во Франции – единственное место, где жизнь казалась ему возможной, кроме России. В Париже отдохнул, окреп, успокоился. Но писать еще не мог – все недавно пережитое лежало на душе стопудовой тяжестью. Да и вообще, он с трудом писал в больших городах – ему нужна была сельская тишина, возможность сосредоточиться, уйти в собственные переживания. К литературной работе он вернулся только в маленьком старинном городке Амбуазе на Луаре, где провел лето. Там он начал писать и прозу, и стихи…
Он долго искал место для жизни, как птица ищет место для гнезда. И, наконец, нашел его на юге Франции, в солнечном и ласковом Провансе. Над городом Грассом, в старом саду, он нашел скромный провансальский домик, расположенный на склоне горы. Добраться до него можно лишь по извилистой каменистой тропинке. Внизу старинный город с узкими средневековыми улицами, тихой провинциальной жизнью, вскипающей только в часы рынка, когда приносят с гор овощи, фрукты и цветы и рыбу с берега моря. Прекрасное, чистое и тихое место, безмерный в красоте своей и в благородстве провансальский пейзаж с морем на горизонте – каменистая коричневая сухая почва, пыльно-серебряные оливы, весной – море цветов. С виллы “Бельведер” открывается широкий вид на город с его старинными башенками, на далекое море, видное в ясную погоду, на прибрежные горы, как в сторону Ниццы и Италии, так и в сторону Эстереля и Мавританских Альп.
Здесь безвыездно с 1923 года и живет Бунин, выезжая лишь на несколько зимних месяцев, насколько позволяли средства, в Париж, где у него много друзей. Сюда, на скромную виллу “Бельведер”, 9 ноября 1933-го позвонили по телефону из Стокгольма, чтобы сообщить о присуждении Бунину Нобелевской премии. Последние четыре года Бунин живет на другой вилле – “Жаннет”, расположенной тоже в полугоре, над городом.
“Солнечно, светло и холодно. Я выхожу из дома в сад, уступами ведущий вниз, на усыпанную гравиeм площадку под пальмами, откуда видна целая страна долин, моря и гор, сияющая солнцем и синевой воздуха. Огромная лесистая низменность, все возвышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тем предгорьям Альп, где я. Подо мной на крутом каменистом отроге громоздится вокруг остатков своей древней крепости с первобытно-грубой сарацинской башней одно из самых старых гнезд Прованса, то есть тоже нечто весьма грубое, серое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. Вправо – синеющие в вечной солнечной дымке хребты Эстереля и Мор. На горизонте впереди – высоко поднимающаяся к светло-туманному небу белесая туманность далекого моря. Горбатый мыс налево тонет в утреннем морском блеске, зыбко окружающем его. Поднимающийся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных венках, шелестит и шуршит в ней… Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистраля. Я просыпаюсь внезапно… Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно несутся куда-то… Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черно-вороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед…” (“Жизнь Арсеньева”).
Весенним утром легкий ветер доносит сюда острый и нежный аромат розовых, нарциссовых и жасминовых полей. Грасс – центр парфюмерной промышленности Франции; с окружающих его полей увозят на парфюмерные фабрики, расположенные в самом городе, целыми вагонами лепестки душистых цветов. Провансальские крестьяне здесь издавна заняты на лугах этой своеобразной промышленностью. Воздух молод и насыщен ароматами. В саду цветут пышные южные цветы, гиацинты, нарциссы, множество белых лилий и синих ирисов, с горячей от солнца стены свешиваются цветущие здесь круглый год розы, слышен пряный дурманящий аромат цветущих апельсиновых деревьев. В конце весны вишневые деревья возле самой виллы отягощены ягодой.