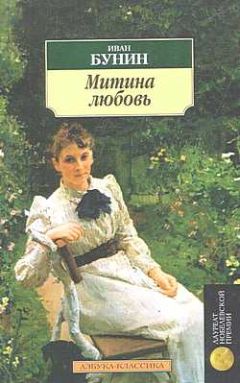«Чувствую себя очень зыбко…» - Бунин Иван Алексеевич
Бунин стоит в проходе у окна, сложив руки на груди. Рядом курит трубку вылощенный, похожий на модного доктора Нилус, на окне потеет в изодранной своей шубе Борис Ивинский – его нос лоснится от жары и волнения, волосы торчат во все стороны, как у дикобраза.
Перед Буниным качается на каблуках плотный маленький человечек в огненной бороде и с гривой всклокоченных в войлок волос – поэт Максимилиан Волошин. Он рассказывает, как встретился в Париже с Далай-Ламой и как Далай-Лама посетил его мансарду.
– А вы увлекались буддизмом? – спрашивает Бунин.
– О-о! – восклицает поэт. – Я собирался даже в Тибет. Далай-Лама прислал мне вышитый ковер…
– Да, – говорит Бунин, – все-таки изумительная вещь этот буддизм! Когда я был в Коломбо…
Он легонько отбрасывает правую руку вперед, словно боится, что подойдет кто-нибудь очень близко. На нем маленькая черная шапочка, какую носят адвокаты, и в ней его лицо меньше и моложе. Узкое, порыжевшее по воротнику пальто скрадывает его фигуру, придавая движениям какую-то связанность и неловкость.
– Вы там написали “Братьев”? – спрашивает Волошин.
– Нет, это после… Когда я был в Коломбо – меня равно поразили и свет солнца непередаваемый, слепящий, и учение Будды, в котором много от этого слепящего очи и душу солнца… После, выгружаясь на берег, я вышел в Одессе как пьяный, не мог глядеть на освещенную землю – все чудился яркий свет Коломбо… Я хотел передать этот свет в “Братьях”.
Из зала выбегает необыкновенно развязный молодой человек и очень громко кричит:
– Господа, что же вы? Задерживаете все собрание…
Но, узнав Бунина, осекается:
– Иван Алексеевич, просим.
Бунин, не отвечая, проходит по залу, садится у окна, неловко подвертывая под себя полы своего узкого пальто. Из окна на его лицо падает неверный зимний свет, оно кажется еще измученнее и серее. В зале плещется разноголосый шум, Пильский без устали трещит колокольчиком, Панкратов вытирает плешь широким розовым платком.
Бунин наклоняется к Нилусу.
– Хорошо бы, – говорит он задумчиво, – хорошо бы сейчас уехать в… Грузию.
– Господа, вы понимаете, конечно, что заставило нас сюда собраться. Я в тысячу первый раз повторяю, что сапожники, ткачи и маляры умеют организовываться и защищать свои профессиональные интересы, а мы, литераторы, – не умеем! Мы крестимся только тогда, когда грянет гром, но… – тут Пильский поворачивает как таран свое простреленное плечо в сторону крайней левой – “мастерской молодых”, – я не уверен… – произносит он насмешливо, – сумеем ли мы организоваться даже теперь под явным громом? Как председатель собрания я спрашиваю вас, г.г. молодые, угодно вам продолжать обструкцию или войти в секцию литературы организуемого свободного союза искусств?
Петр Пильский вежливо опирается на стол, и пенсне от плохо скрытой насмешки дрожит на его носу.
С крайней левой разом поднимаются три фигуры в солдатских френчах, одна с затейливо припомаженным застилающим брови капулем.
– Нет, – кричат они разом, – не угодно!
– Петя, – поощрительным шепотком пытают затем двое, и вперед выступает Капуль.
– Нам неугодно, – вопит он запальчиво, – объединяться с вами, старые износившиеся кроты и господа академи…
– Вон! Вон!
– Личности!
– Призываю вас к порядку, господин, – Пильский мастер выдерживать паузы, – поэт…
– Нам неугодно, да! – заходился он тоненьким тенькающим фальцетом, – объединение с вами – смерть нам! Вы создатели кружковщины в литературе! Вы забили ее своими патентованными талантами и вновь не пустите нас дальше передней… Довольно! Мы – представители свободного, чистого искусства, мы – носители и творцы рожденного революцией нового Мира не ж-желаем…
– Ха-а! – задохнулся зал в искреннем смехе.
Капуль обиделся.
– И вовсе не смешно… От имени свободной мастерской молодой литературы объявляю вам: вы не писатели, а репортеры.
В ответ в зале безудержно, заливчато, до коликов обвалился смех, но часть публики, по-видимому репортеры, угрожающе поднялась.
“Мастерская молодых”, звонко задвигав сапогами, вышла вон в полном составе. И этот громкий поход, в котором молодые энергичные ноги выразили весь свой протест против засилья “патентованных” талантов в литературе, был настолько комичен, что весь зал снова шумно и очень искренне рассмеялся. “Враги” оказались много глупее, чем думали.
Я сбоку посмотрел на Бунина.
Он со скучающим видом глядел в окно, но мешок под его правым глазом сейчас нервно дергался, а меж седеющих бровей набежала беспомощная складка. О чем он думает? Быть может, сейчас ему снова пришла в голову мысль Сутта Ниты, некогда вдохновившая его написать “Братьев”:
– Взгляните на братьев, избивающих друг друга камнями. Я хочу говорить о печали.
Игорь Северянин
Моя первая встреча с Буниным
10 мая 1938 г. я поехал из Саркуля в Таллин на лекцию Бунина, совершавшего поездку по государствам Прибалтики. В России и в эмиграции я лично с ним никогда не встречался, всегда ценя его как беллетриста, а еще больше как поэта. В Тапа наш поезд соединялся с поездом из Тарту. Закусив в буфете, я вышел на перрон. В это время подошел поезд из Тарту. Из вагона второго класса вышел среднего роста худощавый господин, бритый, с большой проседью, в серой кепке и коротком синем пальто с поднятым воротником: был серенький прохладный день с перемежающимся дождем. Я сразу узнал Бунина, но еще медлил к нему подойти, убеждаясь. Путник, заложив руки в карманы, быстро прошел мимо меня, в свою очередь внимательно в меня вглядываясь, сделал несколько шагов и круто повернулся. Я приподнял фуражку:
– Иван Алексеевич?
– Никто иной как Игорь! – было мне ответом, из которого я усвоил, что мои познания в “Истории новой русской литературы” были несколько полнее.
– Выглядите молодцом, – оживленно продолжал он, постукивая пальцем по вагону (очевидно, чтобы не сглазить), – загорелый, стройный, настоящий моряк!
– Однако жизнь не из легких…
– Во всяком случае, во много раз легче, чем в Париже. И одет лучше наших, и в глазах – море и ветер.
– Но чтобы и в природе жить, нужно иногда в город ездить и по квартирам книги своим друзьям навязывать: в магазине, знаете ли, не очень-то покупают.
– Еще и еще раз молодец! Хвалю за энергию. В наше время так и надо, кто жить хочет. Однако, куда вы едете?
– “На вас”. Значит, в одном направлении с вами.
– Ну идем тогда в вагон.
– Позвольте: вы во втором, я – в третьем.
– Тогда пройдем в вагон-ресторан: нейтрально.
Прошли. Сели. Поезд двинулся.
– Что пить будем? Вино? Пиво?
– Вино здесь дорого, да и не хочется сейчас, пива не люблю.
– Ну, что же тогда?
– Чаю.
– Чаю?! Северянин?! Ха-ха-ха! Однако…
Заказали чай. Подали. Бунин – официанту:
– Я просил чаю, а вы воду даете. В Петербурге говорили про такое: “Кронштадт виден”.
Официант:
– Это чай.
Бунин:
– А по-моему – вода. Дайте крепче.
– Встречаете Бальмонта? – спрашиваю я Бунина. – Поправился?
– Поправился. Болезнь его изменила: раньше очень многоречив был, теперь почти все время молчит. Изредка реплику вставляет.
– Это, может быть, иногда и лучше.
– Возможно.
Здесь я пропущу целый ряд более интимных вопросов и таких же ответов на них.
– Пишете стихи? Читаете? – спрашиваю я.
– Почти не пишу. “Жизнь Арсеньева” кончаю. А что значит “читаете”? Свои публично или чужие про себя?
– Свои публично.
– Что вы, батенька! Смешно, право. Кому? Да и годы не те.
– Рады, что опять на севере?
– Терпеть его никогда не мог. Взгляните в окно: тошно делается. Дождь, холод. Все серо, скучно.
– В свое время любили Орловскую губернию, Оку…
– Любил в стихах. Издали. Всегда к югу тянулся. В Одессе жил. Путешествовал.
– Поедемте после завтрашней вашей лекции ко мне в Саркуль, на Россонь. Две реки, озеро, море, леса. У меня лодочка своя – “Дрина”. Понравится.