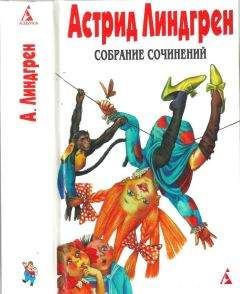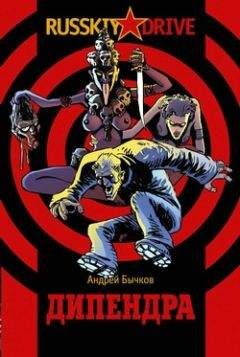Оскар Уайльд - Сказки
Утром мистер Отис имел разговор с лордом Кэнтервиллем, перед отъездом последнего в Лондон, относительно драгоценностей, которые дух подарил Виргинии. Они были необыкновенно красивы, в особенности колье из рубинов в венецианской оправе – шедевр искусства XVI столетия. Они стоили так дорого, что мистер Отис не мог позволить дочери принять такой подарок.
– Милорд, – начал он, – в этой стране, я знаю, права наследства простираются как на поместья, так и на фамильные вещи, а эти драгоценности, конечно, принадлежали вашему роду; поэтому прошу вас взять их с собой в Лондон и считать своей собственностью, возвращенной вам чудесным образом. Дочь моя еще ребенок и – могу похвалиться – не интересуется этой роскошью. Но миссис Отис, как настоящая ценительница произведений искусства – она еще девушкой провела несколько зим в Бостоне, – миссис Отис находит, что эти камни представляют значительную ценность. Вы понимаете, что я не могу разрешить члену моей семьи принять их. Кроме того, подобные безделки и дорогие игрушки – это, может быть, вещи, и необходимые для британской аристократии, но совершенно лишние для людей, которые воспитаны в строгих и – я уверен – неизменных правилах республиканской простоты. Я должен, однако, признаться, что дочь моя охотно взяла бы саму шкатулку, как напоминание о вашем несчастном заблудшем предке. Шкатулка старая, ветхая, и я надеюсь, что вы не откажете моей крошке. Я, со своей стороны, крайне удивлен, видя в своих детях такой интерес к средневековью, в чем бы последний ни воплощался, и объясняю себе это тем, что Виргиния родилась в предместье Лондона, вскоре после возвращения миссис Отис из поездки в Афины.
Лорд Кэртенвилль слушал длинную речь почтенного посла, поглаживая седые усы, чтобы скрыть невольную улыбку.
Наконец мистер Отис умолк. Лорд Кэнтервилль пожал ему руку и сказал:
– Дорогой мистер Отис, ваша прелестная дочка оказала моему предку, сэру Симону, очень важную услугу. Моя семья весьма обязана ей за удивительное мужество и редкую самоотверженность. Бриллианты, без сомнения, принадлежат ей, и, право, я думаю, что если бы я взял их, злой старикашка опять поднялся бы из гроба и отравил бы мое существование. Тем более что вещь, о которой нет ни слова в завещании или другом документе, не считается фамильной. Уверяю вас, у меня на бриллианты прав меньше, чем у вашего камердинера, а когда мисс Виргиния подрастет, то, наверное, с удовольствием наденет их. И, наконец, мистер Отис, помните, вы купили у меня замок с обстановкой и духом в придачу, стало быть, собственность духа – ваша собственность: какие бы там чудеса ни проделывал сэр Симон в Кэнтервилле, по закону он был покойник, и вы купили у меня его наследство.
Отказ лорда Кэнтервилля поверг мистера Отиса в недоумение. Он просил лорда еще раз подумать, но тот стоял на своем. Наконец, посол сдался, разрешил дочери принять подарок привидения, и весной 1860 года молодая герцогиня Чеширская, представленная ко двору по случаю своей свадьбы, своими драгоценностями привлекла всеобщее внимание. Да, Виргиния, как и все славные американские девочки, получила в награду за добрый характер герцогскую корону; она вышла замуж за своего юного поклонника, как только достигла совершеннолетия. Парочка была такой прелестной, такой любящей, что все радовались этой свадьбе, кроме герцогини Дембльтон, матери семи дочерей, три раза дававшей в честь герцога званые обеды, и, как это ни странно, кроме самого мистера Отиса.
Молодого герцога лично мистер Отис очень любил, но принципиально был против титулов и «опасался», по его собственному выражению, «что растлевающее влияние жадной до удовольствий английской аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Противился он, однако, недолго, и, думаю, что во всей Англии не было более гордого человека, чем мистер Отис, когда он вел свою дочь к алтарю церкви Св. Георгия на Ганновер-сквер.
После медового месяца новобрачные приехали в замок Кэнтервилль и в тот же день после обеда отправились на заброшенное кладбище, близ сосновой рощи. Для сэра Симона долго не могли выбрать эпитафии, наконец, высекли на надгробном камне его инициалы и знаменитый стих с окна в библиотеке.
Герцогиня принесла с собой великолепные розы, усыпала ими могилу, и, постояв над ней, молодая чета пошла дальше к полуразвалившейся старой церкви. Виргиния села на упавшую колонну, герцог лег на траву у ног ее, он курил сигарету и с любовью смотрел в ее прекрасные глаза.
Вдруг он отбросил сигарету, схватил ее за руку и сказал:
– Виргиния, у жены не должно быть тайн от мужа!
– Что с тобой, Сесил? У меня нет никаких тайн от тебя.
– Есть, – сказал он с улыбкой. – Я до сих пор не знаю, что было с тобой, когда дух увел тебя.
– Этого я не говорила никому, – сказала Виргиния серьезно.
– Разумеется, но мне ты могла бы сказать.
– Не проси об этом, Сесил, я не могу. Бедный сэр Симон! Я стольким обязана ему. Не смейся, Сесил, это правда. Он открыл мне, что такое жизнь и что такое смерть, и почему любовь сильнее жизни и смерти.
Герцог встал и нежно поцеловал жену.
– Пусть эта тайна останется в твоем сердце, лишь бы оно принадлежало мне, – сказал он.
– Оно всегда было твоим, Сесил.
– Но нашим детям ты откроешь тайну, правда?
Виргиния покраснела…
Молодой король
Наступила ночь перед коронацией молодого Короля. Он сидел один в своей прекрасной комнате. Все придворные уже простились с ним по церемониалу того времени – поклоном до земли и удалились в Большую залу дворца, чтобы выслушать последние наставления церемониймейстера, – у некоторых из них еще сохранились естественные манеры, что в придворном, вряд ли нужно на это указывать, является крупным недостатком.
Юноша, – а Король на самом деле был юн: ему только что минуло шестнадцать лет, – не сожалел об их уходе; со вздохом облегчения бросился он на мягкие вышитые подушки своего ложа и лежал с остановившимся взглядом, с полуоткрытыми устами, словно смуглый фавн, обитатель лесной чащи, или молодое дикое животное, только что пойманное охотниками.
Его и в самом деле нашли охотники. Они наткнулись на него почти случайно в то время, когда он, босой, со свирелью в руке, следовал за стадом воспитавшего его бедного пастуха, сыном которого он себя считал. В действительности же он был сыном единственной дочери старого короля, рожденным от тайного брака ее с человеком низкого происхождения. По словам одних, это был иностранец, пленивший принцессу чарующим волшебством своей игры на лютне; другие утверждали, что он был художником из Римини, к которому принцесса была благосклонна, может быть, даже слишком благосклонна и который внезапно исчез из города, не закончив своей работы в Соборе. Ребенок же всего через неделю после появления на свет был похищен у матери, когда та спала, и отдан на воспитание бездетным крестьянам, жившим в отдаленной части леса, в целом дне пути от города. Горе или, как утверждал придворный врач, чума, а может быть – по мнению некоторых – и быстро действующий итальянский яд, подмешанный в бокал пряного вина, убил бедную принцессу, давшую ребенку жизнь, меньше чем через час после пробуждения; и когда верный гонец, везший мальчика на луке своего седла, соскочил с усталого скакуна и постучал в дверь незатейливой хижины пастуха, тело принцессы было опущено в могилу, вырытую на заброшенном кладбище, далеко за воротами города, в могилу, где, как говорили, уже лежал труп молодого человека поразительной красоты чужеземного типа; руки его были крепко скручены за спиной веревкой, а грудь покрыта многочисленными кровавыми ранами.
Так, по крайней мере, люди рассказывали на ухо друг другу. Верным было лишь то, что старый король, движимый ли в смертный час раскаянием в своем великом грехе, а может быть, и просто желая сохранить престол за своими потомками, послал за мальчиком и в присутствии Совета объявил его своим наследником.
И, кажется, с первого же момента этого признания юный принц уже начал проявлять то необыкновенное влечение к красоте, которому суждено было оказать столь сильное влияние на его жизнь. Придворные, сопровождавшие принца в отведенные ему покои, рассказывали о крике восторга, сорвавшемся с губ юноши при виде приготовленных для него изящных одежд и богатых драгоценностей, и почти дикой радости, с которой он сбросил с себя грубую кожаную тунику и жесткий плащ из овечьей шкуры. Конечно, временами юноша тосковал о своей свободной жизни в лесу, и скучный придворный этикет, отнимавший у него столько времени, раздражал его; но принадлежавший ему теперь дивный дворец – его называли «Joyeuse» – казался ему новым миром, созданным для его удовольствия; и лишь только ему удавалось вырваться с заседаний Совета или из аудиенц-залы, он сбегал по большой лестнице со львами из позолоченной бронзы и ступенями из блестящего порфира и принимался бродить из комнаты в комнату и из галереи в галерею, словно искал в созерцании красоты исцеления от страданий, восстановления сил после болезни.