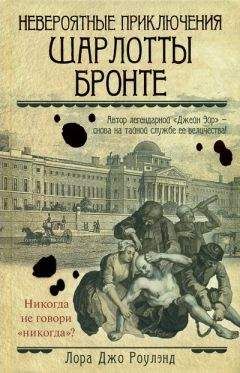Андрей Бычков - Б.О.Г.
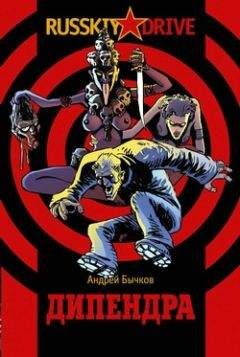
Обзор книги Андрей Бычков - Б.О.Г.
Андрей Бычков
Б.О.Г
Так он и лежал в одном ботинке на кровати, так он и кричал: «Не хочу больше здесь жить! Лежать не хочу, стоять, сидеть! Есть не хочу! Работать-то уж и тем более! В гости не хочу ходить! Надоело все, оскомину набило! Одно и то же, одно и то же…» А ему надо было всего-то навсего надеть второй носок и поверх свой старый ботинок и отправиться в гости к Пуринштейну, чтобы продолжить разговор о структуре, о том, как вставляться в структуру, как находить в ней пустые места и незаметно прорастать оттуда кристаллами, транслирующими порядок своей и только своей индивидуальности. И вдруг – бац! – истерика, ни с того, ни с сего. Вдруг – бац! – видение, что все одно и то же, годами, несмотря на капитализм, на интернет, на пятьсот каналов телевидения, одно и то же, и все такое же тягучее, тяжелое, однообразное, вроде бы вот что-то новое и вдруг сразу же и устаревает, и чем новей, тем быстрее устаревает падла, становится старомодным и банальным, как постмодернизм. Олег Гаврилович посмотрел на еще одну причуду двадцать первого века – бесшумную японскую кофемолку, подаренную на Новый год Пуринштейном, и вдруг понял: «Да потому что люди все те же – голова, две руки, подмышки, прыщи… и по-прежнему жужжат и жужжат об одном и том же, только на новый лад, все по-прежнему сравнивают, кто как живет, и если кому лучше, так это значит хуже, а если кому хуже, так это значит лучше, себе, разумеется». И тогда уже Олег Гаврилович завопил во весь голос: «Не хочу больше тут, в этой жизни жить! Остопиздело все! Пошло все на хуй! Зачем я родился? Еб вашу мать!» И вдруг что-то как ослепило изнутри, что-то как подуло через него, через Олега Гавриловича. Повеяло чем-то холодным таким, если не сказать, ледяным.
«А УМЕРЕТЬ ТУТ ХОЧЕШЬ?» – вот как повеяло вдруг через Олега Гавриловича.
«Блядь, вот это мысль!.. Хочу ли я смерти? Мда-с… Смерти… Вот тут… на этой своей кроватке… в одном ботинке… с мыслями о Пуринштейне…» Он замер, а потом медленно и яростно замычал, мотая головой из стороны в сторону и ударяя щеками по звенящей накрахмаленной простыне.
«А КАК ХОЧЕШЬ?» – поддуло все то же, ледяное.
Олег Гаврилович замер, задумался: «Как? Ну… чисто теоретически, конечно, только чисто теоретически…»
«НАПРИМЕР. ЧТОБЫ МАШИНОЙ СБИЛО, ХОЧЕШЬ? ВОТ ТАК ВОТ ПОШЕЛ В ОДИН МУДАЦКИЙ МАГАЗИН ЗА СВОИМ МУДАЦКИМ ХЛЕБОМ, ЗА СВОИМ БЛЯДСКИМ МОЛОКОМ И – ХУЯК БАМПЕРОМ ПОД КОЛЕНКИ. ВЪЕБЕНИТЬСЯ В ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, ЧЕРЕЗ КРЫШУ, НА ХУЙ, ВЗВИТЬСЯ ВВЕРХ ФАЛДАМИ И… ЕБНУТЬСЯ, БЛЯДЬ, ТАК ВНИЗ ГОЛОВОЙ ОБ АСФАЛЬТ, ВХУЯЧИТЬСЯ, БЛЯДЬ… ХОЧЕШЬ?!»
Картина собственной смерти от удара машиной потрясла Олега Гавриловича. Он подскочил на кровати и бросился надевать второй носок и упаковывать ногу с полунапяленным впопыхах носком во второй ботинок.
«Да только где гарантии? – однако вступила в полемику с ледяной неизвестностью мысль. – Где, на хуй, гарантии, что сразу? – Олег Гаврилович трясущимися руками зашнуровывал шнурки. – Что не будешь потом доживать на больничной койке? Ссать под себя, срать… А они, эти гуманные лжецы будут капельницы тебе ставить? Живи, блядь, любая жизнь лучше всякой смерти. Даже табуретки, гортензии… Мы тебя спасли, мы тебя с того света вытащили, пятнадцать часов резали, обломки костей вынимали, жопу, понимаешь ли, твою то сшивали, а то расшивали! – Олег Гаврилович что есть силы дернул запутавшийся шнурок. – А зачем вы, блядь, меня оттуда доставали?! Чтобы я, сука, еще двадцать лет на больничной койке гнил? В ваш телевизор мудацкий смотрел, да разговоры о структуре поддерживал? На хуй, на хуй! Пошла в пизду ваша гуманность!»
– Вот я и говорю, братцы, – остервенело захохотал он уже вслух, затягивая наконец узелки крепко-накрепко. – Умереть, блядь, это тоже не так-то просто. Зассышь, сука! На пять метров вперед с места прыгнешь, до осевой, ебаный в рот, до тротуара! Да, вот о чем надо бы поговорить с Пуринштейном, а не о том, как вставляться в структуру.
Он надел пальто, вздохнул и отправился в гости. На улице алмазно искрилось – и в белых свежих сугробах, и в черной слякоти под ногами вечно спешащих куда-то людей. Дорогу Олег Гаврилович переходил осторожно, метров за сто до приближающихся автомашин. С Пуринштейном скорбно разговаривал «на вы», стараясь употреблять старинные вежливые обороты, один раз даже хотел сказать «ваше благородие», но вовремя спохватился, Пуринштейн был как-никак начальник и ему это могло бы и не понравиться. Вечер пролетел незаметно.
– Рад, рад нашему интеллигентному разговору, – от души, крупно жал ему на прощание руку Пуринштейн, душенька, старый друг и начальник-сослуживец. – Заходите почаще, Олег Гаврилович, будем чай пить-с! А структура, знаете ли, – он неожиданно очкасто подмигнул и погрозил пальчиком, – это и есть свойство жизни-с. Одинаковость, да-с, одинаковость сознаний и их неизменность как гарантия социального порядка. Рост и позиция, да-с, – вдохновенно продолжал он, – позиция некоего превосходства, в которую вы себя выгодно помещаете и с положения чего вступаете в коммуникацию-с!
Пуринштейн злорадно, по-дружески, захохотал и хотел было подарить Олегу Гавриловичу кремовый самопроизвольно включающийся и выключающийся звонок – последнее изобретение оккультной индустрии под названием «Подтверждатель Мыслей».
– Да ладно вам… – сконфузившись, отмахнулся Олег Гаврилович от подтверждателя и, вежливо попрощавшись, вышел.
Он долго опускался в лифте вниз, и вдруг поймал себя на том, что не отрывает взгляда от яркой красной кнопки. Олег Гаврилович помедлил еще и вдруг ни с того, ни с сего набросился на светлую полированную стенку кабины и стал грызть ее. А когда прогрыз, то увидел скользящий вверх, рядом с его влажным ртом, обнаженный серебристый кабель. «Ну-у же-е, лиз-ни-и меня-я!» – словно бы запел вдруг этот улетающий вверх кабель и засиял невинно и сладострастно, празднично и искристо, как мейстерзингерская какая-нибудь невеста.
Олег Гаврилович долго смотрел на это сияющее и серебристое, скользящее и улетающее, и – «Эх, была – не была!» – взял, да и лизнул…
Ядра яиц и четыре, нет, три копыта – красное, черное и изумрудно-голубое. А вместо четвертого? Олег Гаврилович посмотрел под себя. «О, Господи, неужели же я теперь…» Мучительное чувство, что он никогда больше не сможет залезть в машину, почему-то вдруг охватило его прежде всего.
Олег Гаврилович огляделся. Он стоял на каком-то перроне и, по-видимому, только что вышел из поезда.
– Серый, закурить не найдется? – спросил его перронный уборщик.
Олег Гаврилович покачал головой, ловя себя на необычном ощущении непропорционально длинной и крутой шеи. Жесткие запутанные волосы заколыхались, ему захотелось их почесать, смахнуть что-то невидимое, но, увы, рук не было, только плечи, округлые голые плечи.
– Как знаешь, – обиженно проговорил себе в усы уборщик и стал оглушительно расшаркивать с платформы снег огромной алюминиевой лопатой с короткой деревянной ручкой.
Снег падал на рельсы и не таял. Беззащитная бессмертность звездочек, сквозь которые просвечивала сталь.
Олег Гаврилович удивленно цокнул и пошел. «Вот это да, – неожиданно вдохновился он, ударяя крест-накрест задними и передними копытами и высекая невидимые искры.
– Коней тут, поэмаэшь, понаставили, – продолжал бормотать в усы себе уборщик. – В поездах возют. А убирать-то кто за ними будет, Пушкин?
В метро Олег Гаврилович не попал. Или, как бы это сказать, попал наполовину. Загородка выскочила после передних плечевых ног и больно ударила с двух сторон под брюхо резиновыми держалками. Его вывели на свет божий и под узцы.
– Не х… коням в метро делать, – сказал невыспавшийся милиционер, давя в себе зевоту, а вместе с ней и просыпающийся здоровый инстинкт вдарить по этим огромным оранжево болтающимся ядрам.
„Да это ж конь, – однако почесал он сам себе в скрытом под фуражкой затылке. – А чего животного бить, если б человека“.
Фуражка поползла на лицо и чуть было не упала. Служитель порядка задрыгал руками и ногами и едва подхватил на лету ее кувыркающийся иссиня-серо-красный блин.
А Олег Гаврилович, хоть ему и чуть не наподдали по одному месту, продолжал вдохновляться: „Да, да – конем! Эх, вот если бы еще и до неба, если б еще и до звезд…“ И вздрогнул от тяжести. Так тяжело вдруг на него навалились четыре новых свежевыспавшихся милиционера. Но тогда он им в отместку снова стал опрятным господинчиком с пачкой зелененьких в нагрудном кармане („In God We Trust!“). Так что ебнувшимся с высоты коня на тротуар ментам от растерянности еще пришлось перед опрятным господинчиком и извиняться.
Первые дни, оставаясь дома один и вдохновленный открывшимися ему возможностями, он занимался изготовлением пластелиновых копий неприятных ему агентов жизни, раскрашивал, высунув язык, и с удовольствием всаживал иголочки. А потом бросался к телефону. Агенты, конечно же, помирали, кто сразу, внезапно отравившись сметаной, а кто дня через три, например, от гангрены лица, о чем скорбно и возвышенно сообщали их венценосные отпрыски. Заниматься с иголками и с пластелином было и радостно и поначалу даже как-то сладострастно. Р-раз! – и какого-нибудь там начальника очередной „небесной канцелярии“ вдруг бьет прямо в мозг искрящимся ослепительным параличом. И вот бедняга уже деревянно соскальзывает со стула, его не могут разогнуть и так и тащат, как раскладную заклинившую лестницу, на одних мизинцах, потому как застывший неприятно попахивает чем-то горелым и можно радостно сообразить, что, конечно же, говном, говном горелым! И додумать, что и гроб будет такой же – неправильной угловатой формы с тремя раструбами для рук, для жопы и для ног…